Предисловие с выражениями признательности .............5
Глава 1. В поисках Розеттского камня
Глава 2. Как мы работаем
Глава 3. Как возникают воспоминания
Глава 4. Метафоры памяти
Глава 5. Дыры в голове — дыры в памяти
Глава 6. Животные тоже помнят
Глава 7. Эволюция памяти
Глава 8. Молекулы памяти
Глава 9. Морские улитки и гиппокамп: идеальные объекты?
Глава 10. Никто кроме нас, цыплят
Глава 11. Порядок, хаос, порядок: критерии пятый
Глава 12. Интерлюдия: лабораторные исследования - это еще не все
Глава 13. Из чего состоят воспоминания
Литература
Глава 1 В поисках Розеттского камня
Память - самая долговечная из наших способностей. В старости мы помним события детства восьмидесятилетней, а то и большей давности. Случайно оброненное слово может воскресить для нас, казалось, давно забытые черты лица, имя, морской или горный пейзаж. Память определяет нашу индивидуальность и заставляет действовать тем или иным образом в большей мере, чем любая другая отдельно взятая особенность нашей личности. Вся наша жизнь есть не что иное, как путь из пережитого прошлого в неизвестное будущее, освещаемый лишь в то ускользающее мгновение, тот миг реально испытываемых ощущений, который мы называем «настоящим». Тем не менее настоящее - это продолжение прошлого, оно вырастает из прошлого и формируется им благодаря памяти. Именно память спасает прошлое от забвения, не дает ему стать таким же непостижимым, как будущее. Иными словами, память придает направленность ходу времени.
Для каждого из нас память уникальна. Можно потерять руку или ногу, перенести пластическую операцию или переменить пол, можно жить с пересаженной почкой и все же, пока не откажет память, оставаться тем же для самого себя. Память позволяет нам осознавать и собственную индивидуальность, и личности других людей. Лишившись памяти, человек утрачивает свое «я», перестает существовать. Вот почему так бесконечно интересны и пугающи клинические случаи потери памяти. Это хорошо поняли адепты крионики - родившейся в Калифорнии фантастической идеи быстрого замораживания умерших до того времени, когда успехи медицины позволят воскресить их. Сторонники этой идеи считают возможным создание компьютерной системы для хранения памяти умерших, которую потом будто бы можно каким-то образом ввести возвращенному к жизни человеку. Но человеческая память не воплощена в компьютере. Она закодирована в десяти миллиардах нервных клеток, образующих наш мозг, и в десяти триллионах связей между этими клетками. Следы памяти - это живые процессы, которые трансформируются и наполняются новым содержанием всякий раз, когда мы их оживляем.
Многие жалуются на плохую память, на то, что забывают имена, лица, важные договоренности. Но ведь объем и продолжительность запоминания поистине удивительны. Представьте, что вы в течение нескольких секунд сидите и смотрите на фотографию; потом на другую, потом еще на одну... Представьте теперь, что спустя неделю я снова показываю вам те же фотографии, сопровождая каждую демонстрацией другой, совсем новой, и прошу вас сказать, какую из них вы видели раньше. Сколько, по вашему мнению, вы сможете узнать фотографий, прежде чем истощится ваша память или вы начнете путаться? Мои коллеги по лаборатории в ответ на этот вопрос называли цифры от двадцати до пятидесяти. А в условиях эксперимента большинство людей правильно узнавали не менее десяти тысяч различных фотографий, не обнаруживая признаков исчерпания возможностей памяти.
Неужто мы и вправду ничего не забываем? Не закодировано ли в мозгу каким-то образом все наше прошлое, как утверждают представители некоторых школ психоанализа? И не существует ли ключ к этому коду, с помощью которого мельчайшие события прошлого могут стать столь же четкими, как настоящее в каждый данный момент нашей жизни? Или, быть может, забывание имеет определенную функцию, и мы отмечаем и запоминаем только то, что кажется нам важным для выживания в будущем? В таком случае чересчур хорошая память была бы помехой, а не благом в повседневной жизни, и длительные поиски способов и химических средств для улучшения памяти, уходящие корнями в античное время, стали бы по меньшей мере химерой.
Наконец, самый важный вопрос: как мы запоминаем? Каким образом мельчайшие подробности повседневного существования, пережитые в детстве радости и унижения, прозаические детали вчерашнего ужина или случайный набор цифр на номере промелькнувшего автомобиля остаются запечатленными в смеси молекул, ионов, белков и липидов, из которых состоят десять миллиардов клеток нашего мозга? Такое количество клеток трудно даже вообразить. Но представьте себе, что число нейронов в мозгу любого человека втрое больше числа живущих на Земле людей, а если подсчитывать связи между этими нейронами со скоростью одна связь в секунду, то потребуется от трех до тридцати миллионов лет, чтобы завершить подсчет. Этого вполне достаточно, чтобы хранить воспоминания о всей прошедшей жизни...
Однако есть еще одна проблема. На протяжении нашей жизни каждая молекула тела многократно заменяется, клетки отмирают и тоже заменяются новыми, связи между ними устанавливаются и рвутся тысячи, а возможно, и миллионы раз. Тем не менее в ходе этого всеобъемлющего процесса, который и составляет существо биологической жизни, память сохраняется. Любая компьютерная память перестанет существовать, если все детали машины подвергнутся такой же замене. Память, связанная со структурами мозга и происходящими в них процессами, сохраняется так же, как сохраняются формы тела, несмотря на непрерывный круговорот его молекулярных компонентов.
Именно этот главный парадокс является доминантой поразительного прогресса в нейронауке (науке о мозге и нервной системе), который наметился в 1990-е годы; в США этот период окрестили «десятилетием мозга». В моих мыслях и экспериментальной работе он доминирует много дольше, с тех пор как почти тридцать лет назад я впервые почувствовал себя вправе называться исследователем-нейробиологом. Говоря о памяти в повседневной жизни, мы подразумеваем свойство нашего ума, наших ощущений, мыслей и эмоций. Но в этой книге речь пойдет преимущественно не о нашем сознании, а о мозге. Ученые-нейробиологи убеждены, что научные методы позволяют исследовать не только работу ума во всех ее многообразных проявлениях, но и описывать ее, исходя из свойств и строения мозга, а также происходящих в нем процессов.
Найдутся люди, которые сочтут это заявление либо кощунственным, либо абсурдным. Они станут утверждать, что сознание нельзя познать научными методами, по крайней мере методами биологии, потому что оно в принципе недоступно для материалистического исследования или потому, что имеющиеся в нашем распоряжении методы, хотя они и применимы для изучения поведения и мозга животных, не годятся, когда речь идет о таких сложных явлениях, как человеческие мысли, речь или общественные отношения. Не исключено, что мы просто-напросто неверно ставим вопрос: пытаться понять память и разум путем изучения мозга - это все равно, что понять, как работают компьютер и его программы, анализируя химический состав аппарата и дисков. Однако, когда я, несколько формализуя, говорю о «научных методах», то я, разумеется, не имею в виду «методы физики XIX века», словно существует лишь одна наука, словно все науки, от химии до психологии и экономики, стремились соответствовать такому несколько старомодному представлению о физике, которое активно пропагандировалось традиционной философией науки, а фактически и всей системой образования.
Говоря о науке и ее методах, я имею в виду нечто гораздо более широкое: приверженность унитарному, материалистическому взгляду на мир, убежденность в познаваемости мира методами рационального поиска и эксперимента. Что означает такое определение науки на практике и почему я верю, что оно приложимо к исследованию памяти, станет ясно, если мне удастся достигнуть цели, которую я ставлю перед собой в этой книге.
В качестве ученого-нейробиолога я вижу свою задачу в том, чтобы облечь это мое кредо в плоть и кровь. Повторяю, что работу ума следует описывать, исходя из свойств, строения и функций мозга; такое описание помогает понять ряд фундаментальных вопросов, которыми каждый из нас, людей, задается в связи с собственным существованием: что мы из себя представляем и почему мы именно таковы? Заметьте, я не говорю, что работу ума «следует объяснять...» и т. д. Выражение «объяснять» подразумевало бы, что, будь я в состоянии точно описать молекулярные и клеточные компоненты мозга, сложное организующее взаимодействие между ними, их создание в ходе эволюции и онтогенеза, я дал бы исчерпывающую характеристику разума или сознания и тем самым лишил бы эти слова всякого значения, свел бы все к простой совокупности происходящих в мозгу процессов. Между тем я имею в виду совершенно иное: описывать разум, исходя из свойств и строения мозга, - это совсем не то, что объяснять этот феномен. Я не собираюсь, как некоторые психологи в начале нынешнего века и отдельные социобиологи сегодня, совсем отказываться от языка психологии при поиске ответов на вопросы о том, что мы из себя представляем, почему поступаем так, а не иначе, почему я пишу, а вы читаете эти фразы. Позвольте мне здесь прибегнуть к аналогии.
Войдите в Британский музей в Лондоне через его массивный, в неоклассическом стиле вход, поверните налево, минуйте помещение магазина и постарайтесь пробиться через толпу туристов, заполняющих Египетскую и Ассирийскую галереи. Кучка японцев склонилась над плитой из черного камня, установленной под небольшим углом к поверхности пола. Если вам удастся протиснуться между этими любопытными с их миниатюрными видеокамерами, вы увидите, что плоская поверхность камня разделена на три части, каждая из которых покрыта белыми значками. Значки в верхней трети плиты - это древние египетские иероглифы, средняя часть занята скорописью - демотическим египетским письмом; если вы получили «серьезное классическое образование» или проводили отпуск в Греции, вы сразу узнаете в нижней трети плиты греческий текст. Перед вами Розеттский камень с текстом постановления, принятого общим советом египетских жрецов, который в 196 г. до нашей эры собирался в Мемфисе, на Ниле, по случаю первой годовщины коронации царя Птолемея. Камень был «открыт» (как говорят европейцы о ранее неизвестных им вещах безотносительно к тому, что может знать о них местное население) в 1799 г. лейтенантом инженерных войск наполеоновского экспедиционного корпуса в Египте. После поражения французов он стал трофеем англичан и был привезен в Лондон, где торжественно водворен среди множества других древностей, которые послужили Британии для ее собственного возвеличивания на протяжении целого века имперского владычества.
Однако значение Розеттского камня совсем не в том, что он служит символом взлетов и падения империй (греческая надпись на камне показывает, что время его создания совпало с началом утраты Египтом былого могущества и усилением роли европейцев). Главное то, что все три надписи представляют один и тот же текст, который ученые XIX века смогли прочитать по-гречески, и это позволило приступить к расшифровке до той поры непостижимых иероглифов письменного языка древних египтян. Параллельные переводы на Розеттском камне дали ключ к пониманию «кода», и я вижу в этом аналогию решения той задачи, которую нам предстоит выполнить, чтобы понять взаимосвязь между сознанием и мозгом.
Пытаясь постигнуть мир, который мы населяем, и воздействовать на него, мы используем несколько «языков». Говоря о собственном психическом опыте, мы выражаем личное, субъективное мнение. Классическая задача науки во все времена состояла в устранении этого личностного, субъективного свойства языка и замене его объективными, имеющими общую значимость суждениями. Однако этого легче достигнуть, имея дело с физическими или химическими явлениями, нежели с категориями биологии и психики. Говоря о психическом, душевном опыте, описывая собственные поступки и поступки других людей, причины, по которым мы так поступаем, и чувства, которые при этом испытываем, мы располагаем по меньшей мере двумя альтернативными языками, каждый из которых претендует на объективность. Я говорю о «языке мозга» и «языке сознания». Язык мозга имеет множество диалектов, на которых говорят биологи разных специальностей - физиологи, биохимики, анатомы; здесь нет сомнений в объективности. А язык сознания может быть (и обычно бывает) субъективным, это язык, которым пользуются для повседневного общения, или же язык поэтов и романистов. Однако в устах психолога он тоже претендует на объективность. Одна из задач, стоящих перед новым поколением нейробиологов, родившихся в 60-е годы, формировавшихся в 80-е и достигших зрелости на пороге славных своими научными успехами 90-х годов, состоит в том, чтобы научиться переводить с одного объективного языка (будь то язык мозга или сознания) на другой и обратно. Чтобы облегчить такой перевод, нужен Розеттский камень - некая надпись, которую можно параллельно прочитать на обоих языках, чтобы уяснить себе соответствия между ними. Познание правил перевода не означает сведения одного языка к другому. Греческий язык нельзя заменить египетским, сознание - мозгом. Есть два совершенно разных, но равноправных языка для описания одних и тех же унитарных явлений материального мира. История развития каждого из них в прошлом веке различна, они становились то соперниками, то союзниками. Однако перспективы их объединения, залечивания застарелых разрывов и познания правил перевода никогда не выглядели столь блестящими, как теперь. По причинам, которые, я надеюсь, станут ясны из этой книги, изучение памяти дает нам наилучший шанс узнать эти правила. Иными словами, память станет Розеттским камнем для изучения мозга.
Не слишком ли самонадеянно такое заявление? Память с древнейших времен интригует философов. Каждая культура выдвигала для нее собственную аналогию. У греков это были записи на восковых дощечках, в средние века такой аналогией служили сложные гидравлические системы из труб и клапанов. В XVII веке, в эпоху зарождения современной западной науки, подходящими аналогами казались устройства с рычажками и шестеренками, в XIX веке их место заняли электрические схемы, а во второй половине XX века на смену им пришел компьютер. Я утверждаю, что ни одна из этих аналогий не дает истинного представления о богатстве человеческой памяти, понять которую можно, только зная биологию самого мозга, динамику структурных, химических и электрических взаимодействий между его молекулами и клетками, хотя память и несводима «просто» к этим взаимодействиям.
Некоторым из самых шумливых критиков современной науки этого всего будет мало. Память - это не только (и даже не в основном, как кое-кто считает) предмет науки о мозге и поведении. Для того чтобы сделать перевод, я устраняю субъективный элемент нажатием на клавишу компьютера и предлагаю взамен просто-напросто объективный язык психологии. Однако для каждого из нас собственная память глубоко субъективна. Каждый день я занят в лаборатории изучением биологии памяти в экспериментах на цыплятах, а вечерами отправляюсь домой, в мир, насыщенный моими личными воспоминаниями. Как связаны между собой эти две половины моей жизни? Чтобы устранить разлад между объективным и субъективным в собственной жизни, мало, разумеется, просто осуществить перевод с одного объективного языка на другой, равно объективный. Для этого надо преодолеть гораздо более глубокий раскол, который существует в культуре индустриализованного западного общества и воспринимается иногда как следствие усиления власти науки и ее декларируемой объективности. Можно ли жить в мире с самим собой, если сознаешь, что самые глубокие, сокровенные чувства любви к ближнему, благоговения перед необъятностью Вселенной, в которой проходит твоя жизнь, существуют в голове как системы связей или потоки электрических сигналов между нервными клетками, как процессы синтеза одних белков и распада других? Мне кажется, что нам следует научиться интегрировать эти разрозненные знания и представления, чтобы реализовать тот потенциал, который заложен в самой человеческой природе, в нашем высокоразвитом мозге и столь же высокоорганизованном обществе.
Мне приходится признать, что нейронаука развивается в узких рамках, что до сих пор она в значительной части отдана другой половине нашей фрагментированной культуры, где обитают поэты и романисты, которые пытаются изучать субъективные аспекты памяти. Воспоминания играют важную роль и в древних балладах, и в современных романах, особенно романах XX века, от произведений Джеймса Джойса и Марселя Пруста до новых вещей Маргарет Атвуд, Дж. Бэлларда, Тони Моррисона, Салмана Рушди и Алисы Уокер; их главная тема - личная память, непрерывный анализ прошлого опыта, погружение в пережитое и возвращение к реальности. Можно ли как-то связать этот богатейший материал о работе нашей памяти с деталями поведения цыплят, за которыми я наблюдаю, и результатами химического анализа их мозга? Или мы навечно обречены жить в разделенньхх мирах объективности и субъективности, не имея возможности перевести язык одного из них на язык другого?
Предлагая всего лишь устанавливать соответствия между языками мозга и сознания, биологии и психологии, я игнорировал тот факт, что человек - это не изолированная монада, заключенная в собственной голове, а в высшей степени общественное существо, непрерывно взаимодействующее с внешним миром вещей и других людей. Человек, его разум и мозг не закрытая, а открытая система. Чтобы познать себя, нужно признать эту открытость и то, что науки, объясняющие ее последствия, - это уже не психология или нейробиология индивидуума, а науки о коллективе индивидуумов, образующих человеческое общество. К числу таких наук, занимающихся коллективами, относятся экология и этология, социология и экономика, и их нельзя свести к наукам об индивидуумах (несмотря на претенциозные устремления отдельных социобиологов и нейробиологов).
Эти науки о коллективах рассматривают индивидуальную память как продукт эволюции и истории. Хотя эта книга посвящена главным образом индивидуальной памяти и ее биологическим основам, при ее создании я постоянно сталкивался с таким явлением, как коллективная память, и вы почувствуете отголоски этого в подтексте отдельных глав. В обществе, запутавшемся в собственных культурных артефактах, с историей, которая не вмещается в индивидуальный опыт или память, но сохраняется в текстах и изображениях, память прорывает границы индивидуального, личного и становится коллективной. Некогда память существовала лишь в пределах жизни животного или человека и возникала заново с зарождением и развитием новой жизни. Ныне технический прогресс обеспечивает каждому члену общества память, которой никто никогда не был наделен лично. Назовите мне человека моего поколения, в чьей памяти не запечатлелась бы картина сдвигаемой бульдозером груды тел, обнаруженных в нацистском лагере смерти в 1945 году, или охваченная пламенем напалма девочка, бегущая с пронзительным криком по дороге из вьетнамской деревни. Я пишу эти слова, а древняя племенная память, зародившаяся в давно исчезнувших поколениях, вовлекает целые области восточной и южной Европы в ожесточенный смертельный конфликт. Ни в одной книге, посвященной вопросам памяти, нельзя оставаться всецело в области индивидуального или же коллективного, не пересекая разделяющую их границу, как нельзя избежать проблемы разделения на субъективное и объективное.
У этой книги есть еще одна цель, которая прослеживается в каждой главе. Смысл любого эксперимента, который мы проводим в лаборатории, связан с культурными и идеологическими постулатами окружающего нас мира; точно так же существование лаборатории невозможно без технической поддержки в форме поставок оборудования и реактивов, электроснабжения и денежных средств, о которых обычно не вспоминают, рассуждая о науке. Чтобы мы ни делали в лаборатории, это никогда не выливается в простое созерцание природы: результаты нашей работы сами по себе генерируют новые методические подходы, так же как и новые концепции. Лаборатории стали источниками идеологической и технологической продукции для современного общества. Однако при раздробленности культуры этого общества и в результате этой раздробленности все, что происходит в лабораториях, представляется непонятным и таинственным. Средства массовой информации, особенно телевидение и кинематограф, подают «науку» в образе двуликого Януса. С одной стороны, восторг перед непостижимыми, ошеломляющими «достижениями», которые обещают то одно, то другое еще более поразительное техническое или медицинское чудо, будь то компьютер величиной со спичечный коробок или сильнодействующее средство, восстанавливающее память в преклонном возрасте. С другой стороны, полоумные ученые, современные Франкенштейны, угрожающие разрушить мир по оплошности, из-за самонадеянности или патологического стремления к власти. Как правило, ученые не делают ничего, чтобы развеять такие представления. Мы любуемся своей облаченной в белые халаты экспертократической объективностью, призванной внести определенность в этот неопределенный мир. Мы торжественно повествуем о своих деяниях, все дальше отодвигающих границу невежества и мрака, как о неотвратимом поступательном движении, хотя современные историки отрицают его, разоблачая его виговскую сущность. В целом средства массовой информации верят нам. Журналисты, популяризирующие науку, совершенно беспристрастно направляют на нее зеркало, получая отражение, которое лишь временами искажается публикациями любопытных репортеров, собирающих закулисные истории о взаимных обманах и спорах по поводу приоритета. Узнавая о таких обвинениях, «научное сообщество» старается сомкнуть ряды; отыскав и искоренив гнильцу, остальная компания надеется сохранить добродетель.
В результате за пределами заколдованного круга, в котором заключено «научное сообщество», истинная жизнь лабораторий остается неизвестной. Не будучи профессионалами, мы все же имеем достаточное представление о том, чем в рабочее время занимаются многие из наших сограждан - рабочие и клерки, домработницы, медики, учителя, даже художники, писатели и политические деятели. Но чем заняты мы, ученые? Что это такое: планировать и проводить эксперимент, делать выводы, добывать деньги для таких экспериментов или писать статьи, чтобы убеждать наших пэров от науки, что все наши сообщения о сделанных будто бы открытиях - правда или хотя бы на какое-то время останется правдой, поскольку это все, на что мы сейчас можем претендовать?
На протяжении двух последних десятилетий философы, социологи и даже антропологи пытаются снять с естественных наук налет таинственности, ограничить наши претензии на объективность, подвергнуть критическому анализу нашу аргументацию, наши утверждения, что нам доступно истинное знание природы. Философы ставят под сомнение нашу способность узнавать кое-что о материальном мире, и реализму приходится отступить. Социологи обнажают культурную и идеологическую обусловленность предвзятых мнений, с которыми мы нередко подходим к интерпретации показаний наших приборов; они обращают внимание на место науки в обществе: наука не стоит над ним, но исторически возникла из деятельности человека в рамках капитализма западного типа. Изучение экзотических племен уже не вызывает былого энтузиазма у антропологов, и они предпочитают сидеть в своих лабораториях и записывать разговоры, которые мы ведем, воюя с непокорными инструментами и еще более упрямыми фактами [1].
Неустанная критика экспериментальной науки представителями теоретических дисциплин в основном обошла активно работающих ученых. Еще сохранилось и широко бытует в обществе деление наук на естественные и гуманитарные - то, что Ч.П. Сноу в 50-х годах охарактеризовал как разобщенность двух культур. Естественники по-прежнему уверены, что это их Сноу назвал однажды «мужчинами (sic, и по большей части действительно так!) с будущим в костях». По этой причине большинство из них не достигает истоков враждебного отношения публики к представителям естественных наук, которых считают способными одарить своих сограждан (и не только мужчин, но и женщин, и детей) радиоактивностью, а не будущим. Мы можем не понимать, но, несомненно, ощущаем тот гнев, что приводит защитников прав животных к дверям лабораторий и побуждает охранителей окружающей среды отвергать наш оптимизм и наши заверения о возможности управлять физической и биологической природой и контролировать ее. Мы можем ощущать свое превосходство над теми, кто астрологию и карты предпочитает астрономии и статистике, однако к этому ощущению примешана тревога.
Итак, я пишу эту книгу в критический момент. Проще всего было бы игнорировать философские и социальные вопросы и приступить прямо к делу. Смотрите, сказал бы я, заканчивается XX век, идет «десятилетие мозга» - самое время работать в нейробиологии; у нас есть средства для изучения происходящих в мозгу процессов на разных уровнях мозга. Отбросим концептуальные расхождения - наивный молекулярный редукционизм биохимиков, скучный бихевиоризм психологов, и нам будет ясно видна цель. Память может стать для нас Розеттским камнем, который поможет получить нужное знание. А с новым знанием придут и технические достижения, которые могут изменить качество жизни от колыбели до могилы, по крайней мере для тех из нас, кто живет в относительно благополучных развитых странах.
Но мне хочется большего. Хочется рассказать вам, что значит быть ученым-нейробиологом, планировать эксперименты, проводить обучение животных, исследовать их биологию, строить (и отвергать) теории, популяризировать мою и близкие к ней науки. Я пишу эту книгу не как наблюдатель со стороны. Она не будет ни учебником, ни обзором достижений. В ней я хочу поделиться волнениями и переживаниями, которые сопутствовали моей более чем двадцатилетней работе в лаборатории. Одновременно я рассчитываю хотя бы немного сгладить противоречие в собственной жизни, связанное с тем, что в лаборатории я выступаю по возможности в роли объективного наблюдателя, а за ее стенами становлюсь субъективным, как любой другой человек. Я настаиваю, что устранение такого внутреннего разлада необходимо, чтобы вырваться за рамки нашей фрагментированной культуры и прийти к новому синтезу, который позволит преодолеть и жесткий редукционизм науки, безразличной к человеческим ценностям, и субъективизм, для которого истина - не более чем одна из многочисленных выдумок. Такой синтез и есть тот реальный рационализм, к которому следует стремиться как в лаборатории, так и вне ее. Разумеется, я не закрываю глаза на социальное и философское окружение, в котором проходит моя работа, на кипящие вокруг споры и претензии спорящих на истинное знание. Будучи в последние десятилетия одним из радикальных критиков редукционистской науки, я и сам участвовал в таких дискуссиях. Лучшую часть жизни я прожил рядом с феминисткой - социологом науки, чей критический анализ ее природы в западном капиталистическом обществе, где ею занимаются главным образом мужчины и белые, обещает обнажить слабые стороны любой некритичной защиты, не желающей признать ограниченность такой науки [2].
Не зная жизни лабораторий, непосвященные имеют очень мало возможностей судить об устремлениях ученых и влиять на их деятельность. «Знание - это власть», - писал на заре современной научной эры Фрэнсис Бэкон, гениальный провидец, философ и политик. Демократия есть форма контроля власти. Я считаю себя в достаточной мере политическим продуктом шестидесятых годов, чтобы продолжать верить в необходимость демократизации знания; без этого и власть не может быть демократичной, а само существование человечества находится под угрозой. Однако знание нельзя демократизировать, пока культура разделена, а научные лаборатории остаются таким же закрытым миром, как результаты их изысканий - закрытой книгой. Поможет ли моя книга открыть этот мир?
Таковы цели, воодушевлявшие меня при написании всех последующих страниц. Но достигаю я их окольными путями. Во второй главе я просто приглашаю вас провести день в лаборатории и вместе со мной проделать все рутинные операции обучения цыплят, приготовления срезов мозга и определения их биохимических компонентов в микрограммовых количествах, а потом попытаться извлечь полезную информацию из графиков, построенных на основании полученных данных. Я описываю эксперимент, который начал, когда приступил к созданию этой книги в 1990 году. Однако место его в общем плане моих работ и теоретических построений станет очевидным лишь в последующих главах, так как для понимания смысла эксперимента вам необходимо иметь представление и обо мне как исследователе памяти, и о нынешнем состоянии этой области науки. Поэтому в главе 3 я говорю о своих собственных, субъективных воспоминаниях, о своем становлении как нейробиолога. Дальше уместно будет рассмотреть теории памяти, начиная с увлечений аналогиями - от древнегреческого и древнеримского театра до современных компьютеров. Тогда станет понятно, почему мозг не ЭВМ и почему компьютерная память - это лишь жалкая пародия на память человеческого мозга. Так что же можно узнать, изучая память человека, особенно ее расстройства, вызванные болезнью или несчастным случаем? (Последний подход нейропсихологи называют «выведением функции из дисфункции».) Некоторые из полученных результатов, включая удивительные проявления сильных и слабых сторон нашей памяти, будут обсуждаться в главе 5; там мы увидим, что нам нужно объяснить, чтобы создать адекватную биологическую теорию памяти.
В главах б и 7 я приступаю к выполнению этой задачи, причем отправной точкой будет служить уже память не человека, а животных. Но можно ли говорить о таких сугубо человеческих способностях, как обучение и вспоминание, применительно к животным? На каком этапе эволюции нервной системы и мозга появляется что-то похожее на память? Я покажу, что изучение мозга и памяти животных подводит нас к теории, основанной на свойствах и функциях отдельных нервных клеток и их изменениях в результате индивидуального опыта.
Глава 8 знакомит с современными исследованиями памяти: здесь мы рассмотрим странную идею, получившую распространение в 60-х годах, когда экстравагантные эксперименты и еще более экстравагантные теории на какое-то время заставили многих поверить в существование особых «молекул памяти» - их якобы можно передавать, вместе с заключенными в них «воспоминаниями», от одного животного другому, даже представителю иного вида. Причины, по которым эта ошибка завладела умами, и непродуманные эксперименты, из которых она проистекала, составляют поучительный (и отрезвляющий) эпизод, который плохо согласуется с традиционным виговским представлением о научном прогрессе, но позволяет извлечь важные уроки. Глава 9 переносит нас в 90-е годы с их спорами о современных исследованиях памяти и поисками идеального объекта для ее изучения. Таким объектом некоторые американские ученые считают морскую улитку аплизию, а европейские - небольшой участок мозга млекопитающих, получивший название гиппокампа за сходство с изящной рыбкой Hippocampus (морской конек). Наконец, в главах 10 и 11 я возвращаюсь к цыплятам, которых избрал для своих экспериментов; там я расскажу, как в последние десять лет мне удалось выявить ряд молекулярных, электрических и морфологических процессов, связанных с научением и памятью. Тогда будет понятно, какое отношение имеет описанный в главе 2 эксперимент к тому, что в конце главы 11 станет уже похожим на теорию научения.
В этих последних главах я не касаюсь больше проблематичных - социальных и политических аспектов науки, даже моего собственного субъективного мира за стенами лаборатории, ради сохранения целостного научного изложения. В главе 12 повествование снова переводится в иную плоскость и приведенные факты рассматриваются глазами социологов и творцов научной политики, которые понимают, что одних лабораторных исследований недостаточно. Удалось ли мне выполнить главную задачу этой книги - задачу синтеза разнородных элементов? Во всяком случае, в главе 13 я попытался сделать все, что мог, для достижения этой цели.
Почти каждый день, смотря по обстоятельствам, я прихожу около 9 часов, оставляю пальто и портфель в кабинете, надеваю белый халат и направляюсь в лабораторию. Белый халат - это очень важно, он имеет символический смысл. Во-первых, облачение в него означает, что сегодня проводится эксперимент, и я буду работать, не отвлекаясь на заседания и организационные дела. Во-вторых, белый халат отделяет меня от остального, ненаучного мира, отличает от тех, кто не носит халатов. Я погружаюсь в ауру «ученых занятий», готовлюсь к таинству, почти священнодействию. Но лабораторные халаты не одинаковы: здесь существует иерархия, в которой к их прямому назначению (предохранять обычную одежду от загрязнения химическими и биологическими материалами) добавляется символическая нагрузка. Не нужно долго быть в лаборатории, чтобы заметить это. Прежде всего, халаты бывают разного цвета. Если ваша работа связана с техническим обслуживанием, вы чаще всего носите синий халат, а если работаете подносчиком - то коричневый. Нет никаких особых причин, по которым исследователь не мог бы носить халат синего или коричневого цвета, но цвет защитной одежды, подобно различиям военной формы, без слов указывает на ранг ее обладателя. Работая лаборантом, вы тоже будете носить белый халат, но его покрой будет несколько иным, чем у научного сотрудника, и застегиваться он будет по-другому; кроме того, вам, скорее всего, придется следить, чтобы он был правильно завязан спереди. В отличие от этого мы, исследователи, одеваемся более свободно, халат может развеваться у нас, когда мы бежим по коридору из кабинета в лабораторию. Правда, эта традиция постепенно отмирает, по мере того как биологи все реже работают с химическими реактивами и живыми существами и чаще с компьютерами, рассматривая сложные многоцветные изображения на экранах анализирующих мониторов.
Но иерархия халатов на этом не кончается. Студенты-выпускники не надевают лабораторных халатов (даже когда их выдают бесплатно), если не заняты, например, работой с радиоактивными материалами, что требует соблюдения очень строгих санитарных правил, или не проводят мелких операций на животных. Не прикрывая свои джинсы и рубашки без галстука халатом, их владелец как бы заявляет: моя одежда слишком бедна, чтобы бояться испачкать ее, и вообще, я не желаю, чтобы меня стесняли правилами. На другом уровне иерархии порядки снова меняются: чем выше положение технического работника, тем реже он носит халат. Смысл этого таков: я перешел от лабораторных дел к административным, работаю не руками, а головой.
Иначе обстоит дело со старшим научным персоналом. Многие из тех, кто годами не заходит в лабораторию, каждое утро облачаются в белоснежный халат и весь день проводят в нем за письменным столом, снимая лишь на время обеденного перерыва да уходя домой, в 17.30. Даже на заседание комиссии или совета они приходят в халате. И здесь смысл очевиден: мне бы очень хотелось, друзья мои, присоединиться к вам и взяться за эксперименты, но сейчас я слишком занят - вожусь с бумагами, достаю деньги, спешу на заседание; однако я не совсем оторвался от науки и могу еще принести пользу как ученый, а не только как администратор.
Сегодня я прежде всего направляюсь в виварий, где по правилам гигиены переодеваюсь в другой халат, но отнюдь не белоснежный - об этом позаботились цыплята, с которыми я работал вчера. После сегодняшнего пребывания здесь он не станет чище, и я буду выглядеть как на первой картинке в рекламе стирального порошка. Попасть в виварий в наши дни становится так же трудно, как на военно-воздушную базу США. С тех пор как несколько лет назад защитники прав животных стали взрывать вавирии и «освобождать» экспериментальных животных, в большинстве лабораторий ужесточили меры безопасности в интересах как животных, так и обслуживающего персонала. Над тяжелой дверью нависает телевизионный монитор, и прежде чем она откроется, я должен вставить в замок пластмассовую карточку с моим личным кодом - только тогда я попаду в тамбур и окажусь перед второй дверью, ведущей в основное помещение.
Сейчас я напеваю, входя в виварий, хотя со мной это случается не часто; сразу скажу, что слуха у меня никакого, и мое пение, как говорят, доставляет мало удовольствия. Но меня всегда бодрит сама мысль работать в лаборатории, вместо того чтобы просиживать в кабинете. Сначала я что-то мурлычу себе под нос, но вот уже напеваю обрывки то одной, то другой песни, с моих губ срываются слова, накопившиеся в уголках моей памяти, словно невыброшенный мусор. Я радуюсь, поймав себя на том, что запел. Я знаю, в чем дело. Сегодня день экспериментов - это не то, что перебирать бумаги.
Вот главный коридор, освещенный люминесцентными лампами, вот двери в помещения с кроликами, крысами, мышами и, наконец, в мой блок с цыплятами. В одной комнате - большие инкубаторы, словно массивные домовые печи, с решетками для яиц, которые выдерживают здесь 18 суток, тщательно контролируя температуру и влажность и слегка поворачивая яйца. За пару дней до вылупления цыплят служители вивария, Стив или Дон, переносят партии яиц штук по пятьдесят в другую комнату и помещают в брудер - низкостенный ящик с прозрачной пластмассовой крышкой, в котором поддерживается нужная температура, а освещение автоматически переключается таким образом, чтобы имитировать естественное чередование дня и ночи. Здесь цыплята пробивают скорлупу и появляются на белый свет мокрые, липкие и усталые. Когда на следующее утро я забираю их из брудера, они уже подсохли и попискивают - желтые пятидесятиграммовые комочки пуха, словно сошедшие с пасхальной открытки, как будто не живые существа, а детские игрушки, которыми нельзя не залюбоваться. Но пройдет несколько дней, и исчезнет желтый пушок, начнут появляться белые перышки. Спустя три недели цыплята превратятся в задиристых петушков или в курочек, а через двенадцать недель так прибавят в весе, что, будь они выращены на ферме или птицефабрике, то лежать бы им ощипанными на полке супермаркета и ожидать своего места в духовке. Ибо это цыплята-бройлеры; мы покупаем ничтожное количество яиц из сотен тысяч, еженедельно поставляемых коммерческим птицеводством. Конечно, куры - продукт массового производства, но все же это живые существа, а не машины, и меня прежде всего интересует их биология.
Для сегодняшнего эксперимента мне нужно шестнадцать птиц, но на всякий случай я отбираю побольше. На дно пластмассового ящика я бросаю немного опилок, чтобы цыплята не скребли его, открываю крышку брудера, отсчитываю двадцать четыре птенца и отношу их в соседнюю комнату, где и начнется эксперимент. Это небольшая теплая комнатка площадью около трех квадратных метров. У одной ее стены подставка и раковина, а по двум другим стенам идут полки и на каждой - по нескольку маленьких алюминиевых клеток величиной примерно 20х25 см каждая при высоте 20 см. Над каждой клеткой - 25-ваттная красная лампочка. При погашенном верхнем свете и зажженных красных лампочках комната выглядит необыкновенно уютной. В каждую клетку я сажаю двух цыплят, но сначала на спину одного из них фетровой кисточкой наношу метку, чтобы потом отличить его от другого. Затем разбрасываю по полу клеток немного корма. Он практически не нужен однодневным цыплятам, поскольку в их желточных мешках еще достаточно резервных питательных веществ, которых хватит и на следующий день, но они учатся клевать и им нравится играть,с крошками.
Я держу птенцов парами, так как они очень компанейские существа; рассаженные поодиночке, они скучают и начинают пищать, что служит у них выражением дискомфорта. Цыплята пищат, когда остаются в одиночестве, когда им холодно или когда неожиданно выключают свет. Иногда сразу все находящиеся в помещении птицы поднимают крик, возбуждая друг друга, пока шум не становится оглушительным, как в младшем классе, когда нет учителя. Но стоит громко шикнуть, и они замолкают и успокаиваются, хотя бы на несколько минут. Говорят, того же можно добиться, включив магнитофон с записью кудахтанья курицы. Если же цыплята чувствуют себя хорошо, они лишь слабо чирикают («щебечут»). В некоторых опытах по поведению подсчитывают частоту попискивания и щебетанья цыплят, чтобы оценить их состояние. Если нужно, я определяю пол птенцов. Мы все думали, что без специальной подготовки это очень трудно, пока не узнали, что отличать однодневных петушков от курочек можно по перьям крыла. Самки развиты несколько лучше самцов и имеют двойной ряд перьевых зачатков вместо одиночного у самцов. Однако ни в одном эксперименте из тех, что я проводил, у цыплят не обнаружилось существенньис половых различий, поэтому этот вопрос меня особенно не беспокоит.
Теперь, когда птенцы подготовлены к эксперименту, я оставляю их примерно на час, чтобы они привыкли к новой обстановке («адаптировались»). В это время я ненадолго снимаю халат, проглатываю чашку кофе, просматриваю почту, разговариваю в кабинете с Хитером и уточняю биохимические детали сегодняшнего эксперимента с Резой. Где-то около 10.15 я возвращаюсь к цыплятам и начинаю их обучение.
Я еще раньше разграфил чистую страницу лабораторного журнала - книги для записей формата А4 в твердой обложке. На краю страницы сверху вниз проставлены номера каждой из двенадцати клеток и значки, обозначающие меченого и немеченого цыпленка. Против номера клетки указано, что и когда я должен делать. Наверху страницы - дата и название эксперимента, например «Изучение двойной волны включения фукозы; повторить опыт на странице 34».
Такой журнал - один из немногих оставшихся в современной лаборатории предметов, сохраняющих тот же облик, что и сто лет назад. Зайдите в Музей науки, и вы увидите множество таких журналов: страница за страницей заполнены в них непонятными знаками, отрывочными записями, наскоро сделанными расчетами, вклеены листки с заметками другим почерком... Словом, здесь сырые материалы наблюдений, помогающие создать порядок из хаоса окружающего мира, который мы изучаем. Во многом эти журналы столь же красноречивы и поучительны, как альбомы для эскизов художников или рукописи писателей. Единственное различие между музейными экспонатами и современными лабораторными журналами - то, что прежние были в четвертушку листа или около того, а нынешние приведены к формату А4 согласно европейскому стандарту, и записи в них обычно ведутся «пентелом», а не «паркером». Однако сохраняется утешительная преемственность, знакомая еще со школьных лет, когда нас учили писать на самом верху страницы: «Опыт 37: требуется показать, что вода содержит одну часть кислорода на две части водорода».
Конечно, школьные упражнения - это отнюдь не эксперименты, а всего лишь демонстрация известных фактов. Если мы не подтвердим, что вода состоит из кислорода и водорода в молярном соотношении 1:2, никто не поверит, что мы открыли что-то новое; все поймут, что мы просто ошиблись, неправильно произвели расчет. Учитель скажет нам, каким должен быть результат, и мы запишем его вопреки тому, что получили на самом деле. Это будет триумфом авторитета над наблюдением, вроде того как бывало в средние века. (Говорят, что в современной школе уже не проводят таких псевдоэкспериментов, но в это не очень-то верится.)
Сегодня я провожу настоящий эксперимент. Я не знаю, чем он закончится. У меня есть теория, если только можно удостоить этим высоким титулом недопеченный пирог, который в последние недели стоил мне многих вечеров и выходных дней. В литературе я нашел намеки на возможность явления, которое меня интересует, и несколько недель назад провел сравнительно недолгий и недорогой эксперимент с минимальным числом животных. Его результаты убедили меня в целесообразности нового эксперимента, который я сегодня начинаю, хотя он потребует гораздо больше времени и средств. Я собираюсь сравнить определенные биохимические процессы в мозгу цыплят, подвергшихся различным воздействиям. Но я знаю заранее, что если и обнаружу различия, то они будут очень малыми, для их выявления понадобится статистический анализ и поэтому потребуется не менее шестнадцати цыплят для каждого из четырех вариантов опыта.
Почему так много? Ответ очень простой. Различия, которые я ожидаю получить, измеряя определенные параметры в тех или иных условиях, вероятно, составят в среднем около 20%. Но я отбираю подопытных цыплят случайным образом, не делая никаких предпочтений. Поэтому, если даже их всех просто подвергнуть одной и той же экспериментальной процедуре, результаты измерений все равно будут различаться, так как каждый цыпленок уникален: все они чуть-чуть несходны и в генетическом отношении, и по условиям развития яиц во время инкубации, и по ходу вьшупления; например, одни птенцы легко, а другие с трудом освобождаются от скорлупы, одни появляются на свет первыми, а другие позже, когда вокруг них уже будет множество других цыплят. Эти мелкие различия служат источником изменчивости, которая определяет индивидуальность любого живого организма, и конечный результат невозможно прогнозировать как простой продукт наследственности и воздействия среды. Именно эти различия, наряду с другими факторами, и обусловливают большую сложность биологии как науки по сравнению с физикой или химией.
В моем эксперименте все эти мелкие индивидуальные различия будут сказываться на величине измеряемых биохимических параметров, точно так же как и небольшие различия в экспериментальных воздействиях и в подготовке образцов мозговой ткани для анализа, который я собираюсь проводить. Поэтому даже при максимально возможном сходстве экспериментальных процедур я должен быть готов к тому, что результаты отдельных измерений будут различаться почти на 10% просто из-за случайной изменчивости (т. е. той изменчивости, причины которой меня в данном случае не интересуют и которая не должна влиять на интерпретацию получаемых результатов). Я должен быть в достаточной степени уверен (скажем, на 95% - это общепринятый в научной практике стандарт достоверности), что если различие между группами животных составит 20%, то, значит, оно не обусловлено случайной изменчивостью. Поэтому мне потребуется не менее 16 цыплят для каждого из вариантов опыта, и результаты нужно будет подвергнуть статистическому анализу. Конечно, я могу ошибиться в своих предположениях: последствия экспериментальных воздействий могут оказаться значительно сильнее, чем я думал, и тогда потребуется меньше птенцов. Если же влияние будет гораздо слабее, данные эксперимента окажутся неубедительными и я не смогу удостовериться в том, что оно вообще имеет место.
Тогда я буду досадовать на самого себя: зря затрачены время и деньги, загублены птицы - и все потому, что я неудачно спланировал исследование, и мой пирог оказался не просто недопеченным, а вовсе несъедобным. К тому же в отличие от школьников я не могу со слов учителя записать то, что должно было произойти: упрямые факты просто не захотят подтвердить моих предсказаний и восторжествуют над моей красивой теорией. Между тем она настолько красива, что мне придется снова и снова обдумывать ее, чтобы понять, не допустил ли я ошибки, нет ли другого способа ее проверки. Дело не в том, что трудно придумать новый эксперимент: я изобретаю с полдюжины их каждый вечер, когда мысленно анализирую полученные за день данные. Гораздо труднее решить, какие эксперименты не стоит проводить, потому что они не дадут убедительных результатов или позволят получить лишь тривиальную информацию, а может быть, и уведут в сторону от главного направления работы. Вдохновенного исследователя от посредственного должно отличать безошибочное чувство эксперимента.
Теории умирают трудно, и я думаю, что буду бороться за спасение той, которую я сейчас проверяю, если она действительно стоит этого. Все еще впереди; я узнаю ответ не раньше чем через несколько недель. Поскольку всякий раз, когда я ставлю опыт, мне трудно использовать больше шестнадцати птенцов, придется проводить его четыре раза, чтобы набрать нужные данные. Бесполезно даже пытаться оценить результаты, пока не будут завершены все опыты. Сегодня я повторяю эксперимент во второй раз. Потребуется неделя для обработки полученных результатов, и только через месяц, если ничто не помешает, я смогу сесть за стол и просмотреть весь материал. Только тогда можно будет сказать, имеет ли моя теория хоть какие-то разумные основания.
Однако сейчас не время забегать вперед. В кучке инструментов и разных материалов на подставке с раковиной я нахожу кусок твердой проволоки около 20 сантиметров в длину. На конце его закреплена небольшая белая бусина. Я просовываю бусину поочередно в каждую клетку. Большинство цыплят внимательно рассматривает ее несколько секунд, потом быстро клюет, иногда по многу раз, иногда всего однажды, пока не найдется более интересного занятия. Я регистрирую поведение каждого цыпленка в лабораторном журнале, используя простую систему обозначений: «клюет», «не обращает внимания», «активно избегает». Я проделываю эту процедуру со всеми птицами в каждой клетке, а потом еще дважды повторяю ее. Каждому цыпленку предоставляется три попытки поклевать бусину, и почти все используют по меньшей мере две из них. Те, что не делают этого, исключаются из дальнейших испытаний. Я называю эту процедуру «предварительной тренировкой».
После этого приходит время самой тренировки (обучения). Я беру еще две блестящие хромированные бусины на проволочных ручках, только большего размера, около 4 мм в диаметре. Они совершенно одинаковы, только на ручке одной из них имеется цветная метка, поэтому их легко различить. Потом я наполняю небольшой стеклянный стакан водопроводной водой, а другой - жидкостью из маленького флакона темного стекла, который беру с подставки. Эта жидкость ядовито-желтая и имеет острый запах. На флаконе надпись: «метилантранилат».
Я окунаю одну бусину в водопроводную воду и предлагаю ее двум цыплятам в первой клетке. Они возбужденно клюют ее, потом возвращаются и снова клюют. Я отмечаю это в журнале и выжидаю 6 минут до времени, заранее намеченного для пробы с цыплятами в клетке N 2. Затем я погружаю вторую бусину в желтую жидкость и предлагаю двум цыплятам во второй клетке. Оба с большим энтузиазмом клюют бусину, но вдруг замирают, потом яростно трясут головой, нагибаются и вытирают клюв о пол клетки. Если бы речь шла о людях, я сказал бы, что они отведали чего-то очень горького, испытывают неприятное ощущение во рту и это им очень не нравится. Почему мне не следует впадать в антропоморфизм? Дело в том, что в психологии, особенно англо-американской, считается дурным тоном приписывать животным ощущения, свойственные человеку. Мне надлежит «объективно» регистрировать то, что я наблюдаю, поэтому я вношу в соответствующую графу журнала обозначение К-Т («клюют и трясут головами»). Но на самом деле я не сомневаюсь, что именно так цыплята воспринимают вкус жидкости: я однажды лизнул смоченную метилантранилатом бусину и знаю, что это вызывает ощущение горечи и жжения во рту, как после уксуса или стручкового перца. Но оно быстро проходит, уже через несколько секунд я ничего не чувствовал; а что касается цыплят, то они очень скоро начинают снова безмятежно бродить по клетке. Я перемещаюсь вдоль ряда клеток и через каждые 6 минут испытываю реакцию цыплят на бусины, смоченные водой или метилантранилатом.
Тем временем ко мне присоединяется Реза; он принес полистироловый ящик со льдом, в котором установлен штатив, а в штативе - крошечная пластмассовая пробирка. Реза облачен в халат, а на его руках тонкие резиновые перчатки, так как в пробирках содержится радиоактивная жидкость. Он берет с подставки маленький шприц с длинной и очень тонкой иглой и набирает в него эту жидкость. На стеклянном корпусе шприца нанесены черные линии, каждое деление соответствует чрезвычайно малому объему - двум микролитрам (двум миллионным долям литра). Раньше казалось невозможным даже представить себе работу с такими ничтожными количествами, но теперь это для меня самое будничное дело. Шприц вмещает 50 микролитров, и я буду вводить по 10 микролитров в каждую половинку мозга каждому цыпленку.
Теперь я тоже надеваю перчатки. Уровень радиоактивности на самом деле очень низок, но новые правила техники безопасности очень жестки, и если я сам буду пренебрегать ими, то как я смогу требовать их соблюдения от моих учеников?
Спустя пять минут после манипуляций с цыплятами в первой клетке я поочередно достаю их оттуда, через желтый пушок на голове проступают очертания черепа с его срединной линией, разделяющей полушария мозга, и другими хорошо известными мне деталями, в которых я ориентируюсь, как путник в знакомой местности. Реза вручает мне шприц, и я быстро ввожу раствор сначала в левую, а потом в правую половину мозга. Острая игла легко проходит сквозь черепную крышку, в 4 мм от ее кончика имеется пластмассовая насадка, не позволяющая игле слишком глубоко проникать в мозг. Операция бескровна, она совершенно не беспокоит цыплят; через 20 секунд все закончено, и цыпленок возвращается в клетку.
Бусины предъявляются цыплятам из разньк клеток (число которых может достигать двенадцати) с шестиминутными интервалами, а перерыв между предъявлением и инъекциями составляет пять минут; поэтому обе процедуры приходится проводить почти одновременно, сверяясь с намеченным в журнале графиком и моими наручными часами, которые я перевел в режим секундомера. После того как закончена тренировка шестнадцати птенцов, восьми на воду, а восьми других на горькую желтую жидкость, я могу снова передохнуть. В этом опыте нужно сделать инъекции четырем цыплятам каждой группы сразу же после тренировки, а другим четырем - спустя пять часов.
Раствор, который я ввожу цыплятам, содержит особый вид сахара - фукозу, которую мозг использует для синтеза жизненно важных молекул в мембранах нервных клеток. Фукоза проникает в эти клетки и в последующие два часа встраивается в мембраны. Чем интенсивнее идет образование мембран, тем быстрее включается в них фукоза. Если у одной группы цыплят в среднем образуется больше вещества мембран, чем у другой, то к концу двухчасового периода в их мембранах окажется больше фукозы. Мне остается только найти способ разделить различные области мозга, получить в чистом виде их мембраны и определить содержание в них фукозы. Именно поэтому сахар, который я ввожу цыплятам, помечен радиоизотопом: часть его обычных углеродных атомов заменена радиоактивным углеродом (тот же принцип, но с использованием короткоживущих радиоактивных веществ, все чаще применяется для сканирования мозга или всего тела в качестве рутинной процедуры обследования больных в крупных больницах). Если потом измерить количество радиоактивности в мембранах, то можно рассчитать, сколько фукозы вошло в их состав. Выделяя мембраны из разных отделов мозга и проводя такие измерения в различные сроки - либо сразу после обучения цыплят, либо через пять часов, - можно установить, в какой части мозга произошли изменения (если они действительно произошли) и как долго сохраняются различия между группами цыплят. Таков во всяком случае принцип, который положен в основу моих экспериментов.
Еще один перерыв. Я сделал все инъекции и теперь у меня есть время поговорить со студентами, проверить, как проходит эксперимент, поставленный на прошлой неделе, позвонить по телефону. Через час после обучения цыплят нужно испытать их реакцию. Я подхожу к клеткам, беру проволоку с блестящей хромированной бусиной и опять просовываю ее в клетки, но на этот раз сухую, не смоченную ни водой, ни раствором метилантранилата. Цыплята, которые в первый раз клевали бусину, предварительно опущенную в воду, с энтузиазмом набрасываются на нее. Те же, что часом раньше испытали, какой она может быть горькой, в большинстве своем лишь с опасением на нее поглядывают, другие пятятся назад, третьи просто отходят в сторону. Все они уже научены и помнят, что бусины неприятны на вкус; соответственно изменилось их поведение, и я регистрирую это в лабораторном журнале.
Это небольшое различие - клевать или не клевать бусину в зависимости от предшествующего опыта - служит отправной точкой моей экспериментальной программы; на нем бьыа сосредоточена моя научная деятельность на протяжении последних пятнадцати лет, и именно ему в основном посвящена эта книга. Что происходит в голове цыпленка, если столь кардинально меняется его поведение? Я называю это научением, памятью, вспоминанием.
Еще не закончив этой фразы, я уже слышу скептические голоса. Что за безумная идея посвящать жизнь такому занятию! («Когда ты бросишь свою науку и займешься настоящим делом?» - спрашивали меня тетушки и дядюшки, когда мне шел третий десяток. После того как я стал профессором, они умолкли: это уже было нечто серьезное, хотя они плохо понимали, что за этим кроется. Когда говорят «Мой сын врач», - это понятно всем. Но что значит «Мой сын - профессор?). Цыплята клюют бусину, а вы называете это памятью? Память - это наша жизнь и воспоминания детства, это способность узнавать голоса друзей по телефону и вспоминать отпуск двадцатилетней давности при взгляде на старую фотографию, знать наизусть расписание встреч или название команды, выигравшей кубок в 1985 году. Какое отношение к этому имеют цыплята, клюющие бусину?
Но памятью обладают не только люди. Животные тоже чему-то научаются и что-то запоминают - без этого они бы просто не выжили, хотя мы не можем поговорить с ними и попросить рассказать о своем детстве. Мы можем узнать, научились ли они чему-нибудь и помнят ли о чем-нибудь, только наблюдая их поведение и его изменения в результате приобретенного опыта. Некоторые из моих цыплят, которые стали клевать блестящую бусину, после первой же пробы убедились, что она имеет горький вкус. Не удивительно, что когда я снова предложил им такую же бусину, они, вместо того чтобы клевать ее, отворачивались или отходили. Их сотоварищи, которые, однажды клюнув бусину, нашли ее просто мокрой, снова стали клевать ее, когда им ее предложили во второй раз. Но в поведении той группы птенцов, которые клевали горькую бусину, что-то изменилось; они столкнулись с чем-то новым, извлекли из этого урок и помнили его спустя несколько часов, когда я снова подверг их испытанию. (Возможно, что-то изменилось и в поведении цыплят, клевавших бусину, смоченную просто водой; они ее попробовали и нашли, что в ней нет ничего плохого, напротив, только приятное. Значит, в данном эксперименте на самом деле сравнивались не просто птенцы, помнящие и не помнящие прошлый опыт; я могу многое добавить по этому поводу, но я сделаю это позднее.)
Я настаиваю на правомерности употребления здесь слов научение (learning1), память, вспоминание не просто как метафор из области человеческого опыта, а в качестве адекватных дескрипторов поведения животных, которых я изучаю. (Английскому learning в психологии соответствует слово «научение», когда речь идет о самом феномене, и «обучение», если имеется в виду процедура, приводящая к выработке новой реакции. - Прим. ред.)
И все же, если цыплята действительно обучаются и вспоминают, какие у меня есть основания считать, что в их мозгу должны происходить изменения? Что могут сказать результаты моих биохимических анализов о процессе обучения и памяти как таковых? Целый сонм философов, психологов и специалистов по искусственному интеллекту, работающих с компьютерными моделями, станут утверждать, что каковы бы ни были открытия в области биохимии и клеточных процессов мозга, они не представляют интереса для теории памяти. Представьте им мозг в виде черного ящика со входами и выходами, и они предложат его модель - с таким же успехом он мог бы быть куском зеленого сыра. Для этих людей мои эксперименты выглядят вполне тривиальными, как если бы я пытался понять работу компьютера, проводя химический анализ его логических схем. Но об этом потом, потом. Я не уклоняюсь от дискуссии, но поведу ее по-своему - дайте мне только закончить сегодняшнюю работу в лаборатории.
Имеют ли процессы, происходящие в мозгу цыплят, когда они «обучаются» (в первый и последний раз я беру это слово в кавычки), хоть какое-то сходство с тем, что происходит в человеческом мозгу? Не спешите: мы обсудим и это, но сейчас предстоит ответить на более серьезные вопросы.
Если я прав (не в случае данного эксперимента, а в отношении правомерности попыток понять механизмы научения и памяти), мне придется заглянуть в мозг цыплят. Предупреждаю, что это зрелище не для слабонервных. Через час после повторного испытания я снова рядом с цыплятами. И опять меня сопровождает Реза. На подставке перед нами стоит поднос со льдом, а на нем - препаровальная лупа с двумя окулярами, которая больше напоминает бинокль. В стороне - штатив с 48 крошечными пластмассовыми пробирками. Левой рукой я беру первого цыпленка так, чтобы его голова выступала между пальцами, и большими ножницами быстро отделяю ее от туловища, которое падает в небольшое пластмассовое ведерко. Если я действую достаточно быстро, операция проходит практически бескровно. Продолжая держать голову пальцами левой руки, я снимаю с нее кожу и обнажаю тонкие, почти прозрачные черепные кости, под которыми слабо просматриваются очертания мозга. Маленькими ножницами с острыми искривленными концами я вскрываю череп, стараясь сделать округлый, как верхняя кромка чашки, разрез и приподняв пинцетом отделившуюся часть кости. Под ней - розовые, строго симметричные и изящные - лежат полушария мозга: клетки, плотно упакованные в объеме одного кубического сантиметра, и... ответы на вопросы, над которыми я бьюсь. С помощью шпателя я извлекаю весь мозг из его костной оболочки, кладу на фильтровальную бумагу в чашке со льдом и передаю Резе. Тот переносит мозг в форму из синтетической смолы с двумя проделанными в ней бороздками, а потом берет два бритвенных лезвия (прекрасно работают «жилетт» и «уилкинсон») и вставляет одно из них в одну, а второе - в другую бороздку, тем самым разделяя мозг на части с плоской поверхностью. Каждую часть мы извлекаем из формы и помещаем на стеклянную пластину, лежащую на льду. Пластина снизу подсвечивается через трубку из оптических волокон, что позволяет различить очертания шести небольших зон, которые нас интересуют, благодаря несколько иному оттенку белого и розового у окружающих тканей, что, вероятно, обусловлено разницей в распределении клеток, кровеносных сосудов и других структур. Каждую из этих зон Реза поочередно иссекает скальпелем, помещает крошечный кусочек ткани весом не более 20 миллиграммов (двадцать тысячных грамма) в одну из заранее маркированных пробирок и возвращает ее мне. Передо мной стоит ящик из полистирола, наполовину заполненный сухим льдом - замороженной двуокисью углерода с температурой 80° ниже нуля. Я поочередно погружаю пробирки в лед, и находящиеся в них пробы ткани мгновенно замерзают. Пока Реза продолжает готовить препараты, я извлекаю мозг следующего цыпленка. Живой мозг от замороженной ткани отделяют всего три минуты. На восемь цыплят в этой половине эксперимента затрачено двадцать четыре минуты.
Мы испытываем своеобразное удовольствие от ловкости наших рук и знания дела, которых требует эта операция. Если вы не умеете обращаться с цыплятами, вам не удастся обучить их; выроните шприц или скальпель - и многочасовая работа пойдет насмарку, цыплята будут забиты без всякой пользы. Мы с Резой гордимся быстротой и точностью наших манипуляций. Такая совместная работа - еще одна характерная черта труда исследователя. Академическую науку обычно творят одиночки. Вы сидите в библиотеке, читаете написанное другими, ставите вопросы, переосмысливаете. Вы изолированы от мира, перед вами лишь чистый лист бумаги или экран, ручка или клавиатура, вы готовитесь писать. Совсем другое дело лабораторная работа. Они сродни труду на небольшой фабрике, с ее технологической линией и разделением труда (я обучаю птиц и извлекаю мозг, а Реза готовит образцы ткани; завтра утром, уже не в виварии, а в светлой, блистающей чистотой биохимической лаборатории Дженни приступит к анализу подготовленных нами сегодня препаратов). Все мы специализируемся на выполнении определенных процедур, и в лаборатории, естественно, существует своя иерархия, хотя ее не сразу заметишь, так как все называют друг друга по имени, у нас есть понятные только нам шутки и мы работаем рука об руку. Если считать научных сотрудников, исследователей из других учреждений, студентов и вспомогательных работников, в нашей группе наберется больше двадцати человек, согласованно выполняющих общую работу. У нас разная подготовка: есть биохимики, физиологи, психологи, анатомы, но все мы сейчас называем себя нейробиологами - словом, которое вошло в моду всего лет десять назад. Но как бы ни различалась узкая специальность наших нейробиологов, главное то, что всех в равной степени интересуют мозг и его функции.
Лишь немногие в нашей группе имеют постоянные должности: я сам, еще один научный сотрудник и кое-кто из вспомогательного персонала. Большинство других работает по краткосрочным контрактам на средства, которые один из нас (обычно это я) получает от советов по исследованиям (государственных учреждений, финансирующих научные проекты) или от частных фондов. Есть ученые, приехавшие из других стран, чтобы поработать в нашей группе несколько недель или месяцев. По отношению ко всем этим временным работникам я неизбежно оказываюсь в роли руководителя-администратора.
Я мою инструменты, нахожу клочок бумаги, пишу на нем: «400 микрокюри ЗH» (радиоактивность содержимого) и приклеиваю его к ведерку с тушками цыплят как предупреждение, что этот материал загрязнен. Позднее Стив или Дон сбросят его в отходы. Теперь прочь перчатки, мою щеткой руки, снимаю халат. Время обедать. Половина эксперимента окончена. После перерыва я повторю инъекции и возьму пробы мозга восьми других птенцов, после чего клетки очистят для предстоящей завтра работы. Биологические исследования на сегодня завершены. Все собранные пробы поместят в холодильник при температуре -80°, и эксперимент будет заморожен не только в буквальном, но и в переносном смысле слова. Консервирование при низкой температуре позволяет на неопределенно долгое время приостановить все обменные процессы в тканях мозга, включение радиоактивного сахара в клеточные мембраны, посмертное разрушение клеток и разложение ткани. Остаток дня можно посвятить другим занятиям - посетить семинар, встретиться с другими членами группы в баре за кружкой пива, заняться собственными делами. Завтра предстоят биохимические анализы.
Однако все это похоже на убийство. Не так-то легко и приятно превращать живые комочки желтого пуха в безголовые тушки. «На прошлой неделе я видел, как казнили женщину, - писал Джонатан Свифт, - и вы не поверите, как это повредило ее внешности». Разумеется, он прав. Да, мозг красив, строение его клеток - верх изящества, от которого захватывает дух, когда рассматриваешь их под микроскопом, даже у меня, впервые увидевшего их тридцать с лишним лет назад. Но сегодня я разрушил жизнь.
Для каждого, кто подходит к вопросу о правах животных с позиций максимализма, не может быть сомнения, что, убив цыплят, я совершил зло, проявил гегемонистское устремление возвыситься над природой, причинил боль, однозначно действовал только как специалист. Конечно, все это я проделал, не выходя за рамки весьма строгих постановлений министерства внутренних дел Великобритании, которые определяют, в каких условиях следует содержать кур, сколько птиц можно использовать для исследования и какие операции проводить на них. Требования этих документов гораздо жестче законов о защите детей (недаром в Британии издавна бытует шутка, что у нас есть Королевское общество борьбы с жестоким отношением к животным и только Национальное общество борьбы с жестокостью к детям). И уж разумеется, если бы я не закупил яйца у поставщика, они были бы отправлены в птицеводческое хозяйство и вылупившиеся цыплята примерно после двенадцати недель вольного или клеточного содержания оказались бы на полке магазина с потрохами и сальмонеллами или без них. А еще раньше их подстерегала смерть от руки кого-нибудь другого или от машины. Это не имеет значения, если принять аргументы защитников прав животных. Тяжесть этих преступлений против животных несопоставима. Поскольку я ставлю опыты и пишу эту книгу, я должен открыто высказаться по поводу этих аргументов. Мои исследования имеют целью познание фундаментальных механизмов работы мозга, которые лежат в основе научения и памяти. Если мне, нам, обществу (выбирайте любое из этих слов) нужны такие знания, то в настоящее время нет иного способа получить их, кроме опытов на животных. Нужны ли они нам (здесь под «нами» я разумею общество, поскольку моя работа не частное дело отдельного лица, но часть общественного труда) - это, разумеется, вопрос социального выбора, ибо наука представляет собой форму общественной деятельности, финансируемую государством и промышленными компаниями.
В истинно демократическом обществе все наши институты, в том числе наука, являются открытыми институтами. Без сомнения, общество не только использует животных, но и приносит им вред. Я категорически возражаю против многих форм обращения с животными на фермах, на охоте, при содержании в домашних условиях и, конечно, при научном экспериментировании. Я никогда не соглашусь с точкой зрения картезианцев, которые смотрят на животных как на бесчувственные машины, что позволяет, не задумываясь, делать с ними все что угодно. Если бы они действительно были такими, мои исследования, вероятно, потеряли бы всякий смысл.
Защитники прав животных, похоже, хотят усидеть на двух стульях. С одной стороны, они утверждают, что животным доступны чувства и потому они, как и люди, обладают определенными правами. С другой стороны, пропасть между животными и человеком, по их мнению, так глубока, что эксперименты на животных не могут дать ничего ценного для понимания природы человека. Это откровенная чепуха. Биологический мир непрерывен. Основные биохимические механизмы, поддерживающие жизнь, сходны у большинства живых организмов. Если бы дело обстояло иначе, то сама пища, которую мы едим, была бы для нас ядом. Многие болезни человека свойственны и другим млекопитающим; именно поэтому изучение последних позволяет находить правильные пути лечения. Это же относится к механизмам работы мозга - предмету моих исследований. Бактерии или тканевые культуры (опыты на растущих в пробирке клетках и кусочках ткани иногда предлагают в качестве альтернативы опытам на животных не обучаются и не запоминают. Если знания такого рода необходимы ученым или обществу (неважно кому в данный момент, поскольку в конечном счете это отдельная политическая проблема), то нет иного пути, как экспериментирование на животных.
Разумеется, в каких-то случаях возможны и эксперименты на людях. Иногда они допустимы (а при испытании новых лекарственных средств или методов лечения просто необходимы) после предварительной проверки их безопасности на животных. Мы знаем отважных физиологов (таких, как Дж. Б. С. Холдейн в 20-е и 30-е годы), которые предпочитали проверять свои гипотезы на себе. Новые системы получения изображений, сканеры и биомагнитные детекторы, позволяют измерять внутренние мозговые процессы, о чем еще несколько лет назад нельзя было и мечтать. Однако в случае подавляющего большинства биохимических и физиологических процессов, которые приходится изучать, чтобы понять биологию человека, мы неизбежно сталкиваемся с парадоксом: познание жизни требует гибели живого.
И в этом суть проблемы. Именно потому, что мы люди, надо прежде всего думать о правах человека. Как далеко простираются эти права и имеет ли смысл вообще распространять это понятие на животных? Ведь кошки и собаки, мыши и обезьяны, вши и слизни, осы и комары - это все животные. Какое же место в этом перечне занимают мои цыплята? И как широко следует толковать концепцию права? Вплоть до запрещения убивать комара, сосущего нашу кровь? До охраны крыс от охотящейся кошки? Имеет ли муравей такие же права, как горилла?
Большинство людей дают отрицательные ответы на эти вопросы, хотя мне пришлось разговаривать с одним активистом, пикетировавшим нашу лабораторию, который утверждал, что даже у вирусов есть душа. Я полагаю, что на самом деле большинство защитников прав животных придерживаются мнения, что чем ближе животное к человеку в биологическом (эволюционном) смысле, тем больше прав оно должно иметь. Но где проходит граница? На уровне приматов? Млекопитающих? Позвоночных? Стоит допустить правомерность таких вопросов, как становится ясно, что решаются они произвольно: ведь это мы, люди, предоставляем права животным, сами они не располагают никакими правами. Конечно, и произвольное решение не обязательно ошибочно. Приверженцы этических норм и защитники прав животных пытаются выделить среди последних организмы, испытывающие боль, и те формы, которые по нынешним представлениям не чувствуют ее; иными словами, пытаются провести различие между животными с развитой нервной системой и видами, имеющими небольшой и относительно просто устроенный мозг. Я всегда избегал работать с приматами, кошками или собаками, хотя понимаю, что в некоторых случаях это неизбежно. Пробным камнем для тех, кто проповедует моральный абсолют в вопросе об использовании экспериментальных животных, служит изучение СПИДа, поскольку единственным пригодным для этой цели животным, помимо человека, является шимпанзе.
В таком контексте споры о правах животных, очевидно, совсем не то, что дебаты о правах женщин или чернокожих и о гражданских правах, где речь идет о требованиях равенства и справедливости для лиц, испытывающих угнетение в ходе исторического процесса. Это показывает, как должны действовать мы, люди. Именно в этом вопросе важное значение приобретает биологический разрыв между человеком и другими животными. Беспокойство по поводу нашего отношения к животным проистекает из самой человеческой природы, природы существа биологического и социального. Вряд ли можно предполагать, что кошки обсуждают права мышей. Таким образом, вопрос совсем не в том (и не может быть в том), имеют ли животные права, а в том, что у нас как людей есть обязанности.
И я убежден, что мы обязаны относиться к другим животным по-доброму и уважительно, применять минимум насилия, не говоря о жестокости, не причинять им вреда и не лишать жизни, если этого можно избежать. Эта обязанность сродни нашей ответственности перед экологией планеты в целом. Я уверен, что большинство активно работающих биологов разделяет эту точку зрения; более того, я убежден, что нельзя достойно экспериментировать на животных, не уважая их. Если бы мне пришлось обращаться с цыплятами по Декарту, как с бесчувственными машинами - простыми логическими системами, основанными на химии углерода вместо более надежной химии кремния, как в компьютерах (а именно такой подход все еще проповедуют некоторые школы психологов-бихевиористов), я скоро потерял бы способность разумно планировать эксперименты и интерпретировать получаемые с их помощью результаты.
Разумеется, так было не всегда. В XIX веке, особенно до появления наркоза, при постановке физиологических экспериментов гораздо меньше заботились о подопытных животных, и борцы против вивисекции называли физиологию наукой боли. Я не собираюсь оправдывать и современных биологов, которые не всегда безупречно мотивируют и проводят эксперимент. Все возрастающий объем научных публикаций и своего рода молекулярная рулетка с участием фармацевтических фирм, которые проводят испытания новых лекарственных средств или ищут способы обойти существующие патентные законодательства, - это все источники множества ненужных и слабо обоснованных экспериментов.
Однако все обязательства по отношению к животным не должны заслонять в наших глазах гораздо более важного обязательства перед людьми. Дома мы держим очень любимую нами очаровательную кошку, которая, я убежден, с удовольствием стала бы помогать мне в обучении цыплят, если бы ей разрешили. Но если бы мне пришлось выбирать между спасением жизни этой кошки или жизни любого ребенка, я без колебаний спасал бы последнего, а кошке отдал бы предпочтение перед курицей. И так поступило бы большинство людей. Это не что иное, как видоспецифичная лояльность, или специесизм, как называют ее поборники прав животных. В этом смысле я с гордостью отношу себя к специесистам. Мое решение работать с цыплятами, проводить эксперименты, подобные сегодняшнему, было обусловлено не каким-то абсолютным критерием прав животных, а соображением оправданности гибели птиц для получения полезных нетривиальных знаний, которые могут принести такие эксперименты.
Если я перестану думать об этом (а я ловлю себя на том, что это случается нередко), то я возьму на себя пугающую ответственность: выступать в роли бога для цыплят. Я подозреваю, что многие из нас, подобным образом работающих с животными, чувствуют это, хотя мы не слишком часто касаемся этой темы. Но это видно из уклончивых выражений, к которым исследователи обычно прибегают, говоря о забое животных. Возьмите рядовую научную статью, особенно исходящую из какой-нибудь лаборатории в США, и прочитайте вводную часть, а затем раздел «Методы», в котором по установившимся правилам подробно описываются использованные авторами методики. Вы найдете здесь описание содержания животных и манипуляций с ними, способов обработки тканей, но никогда не найдете сообщений об убийстве крыс, мышей, кошек, обезьян или кур. В таких опытах животных почти всегда «приносят в жертву» (sacrifice). Это весьма любопытное выражение. Вникните в его смысл, и вы увидите, что акт забоя был не случайным или беспричинным, но преднамеренным, даже ритуальным, словно экспериментатор, совершая его, переставал быть простым смертным и выполнял уже некие мистические действия, священнодействовал. Здесь мы имеем дело с вариантом синдрома белого халата, будто бы смерть подопытного животного оправдана соображениями некоего высшего блага. (Недавно я получил на отзыв рукопись статьи, в которой был употреблен еще худший эвфемизм: авторы говорят, что мышей «подвергали эвтаназии». У меня перехватило дыхание, когда я увидел это выражение, неприемлемое по двум причинам: из-за болезненных споров вокруг проблем эвтаназии и из-за того, что это слово подразумевает, будто мыши добровольно согласились на смерть. В результате я отклонил статью.)
Анализируя этот символизм, я не стану отрицать, что он хотя бы отчасти подразумевает известное уважение к животным. Нет необходимости доказывать, что смерть воробья предопределена заранее или что цыпленок не есть нечто изолированное, целиком сосредоточенное в самом себе. Изголодавшись по выразительному языку, мы, ученые, облачаемся в символические одежды и «приносим в жертву» наших подопытных животных. Если в моих научных статьях я настаиваю на более откровенном англосаксонском выражении, я тем самым заявляю об отказе признавать высокую значимость этого акта. Пару лет назад я беседовал с секретарем Британского союза борьбы за отмену вивисекции, чтобы высказать ей беспокойство в связи с возросшим притоком в эту организацию членов неонацистских групп, которые использовали ее для прикрытия своих нападок на традиционные способы забоя животных у евреев и мусульман.(Проблема гораздо глубже. Фашистской и нацистской идеологии свойственно глубоко укоренившееся стремление мыслить «экологически». Самые строгие законы об экспериментировании на животных были приняты в Германии в годы правления нацистов - свидетельства того, что Untermenschen с их «жизнями, не стоящими того, чтобы жить», считались даже Unteranimalen. По меньшей мере одна крайне правая группа в Великобритании в настоящее время издает свой экологический журнал.) Как можно защищать права животных и в то же время пренебрегать правами человека? Она согласилась: это давняя (и все еще актуальная) проблема. Кроме того, добавила она, ей никогда не приходилось таким образом разговаривать с вивисектором; но не чувствую ли я, что моя работа несколько напоминает то, чем занимается доктор Менгеле? Странная мысль обращаться с таким вопросом к еврею! Тем не менее я ответил: нет, не чувствую. Но не могло ли это по крайней мере притупить во мне сознание, что я совершаю убийство животных? В этом, конечно, есть доля истины. Студентом меня учили убивать и иссекать ткани. Секционная работа требует мастерства и, как я уже говорил, приносит большое удовлетворение, если выполняется быстро и аккуратно. И все же эта работа меняет людей нашего типа, наше отношение к человечеству и к миру животных. Если нам по роду занятий приходится налагать руки на другие живые существа, будь мы фермерами, мясниками, хирургами или биологами-экспериментаторами, то наше отношение к другим людям не может не отличаться от отношения к ним писателя, учителя, философа или рабочего, занятого на сборочном конвейере. Но те, кого профессия не приводит каждодневно к соприкосновению с жизнью и смертью животных, не могут в обыденной жизни обойтись без знаний и других ценностей, являющихся результатами нашего труда.
Такова по крайней мере одна из причин, по которой я пытаюсь в этой книге откровенно рассказать о своей специальности, снять покров тайны с экспериментальной науки, не просто абстрактно исследовать память, но понять, каким образом, изучая ее у цыплят, я могу подойти к познанию собственной памяти.
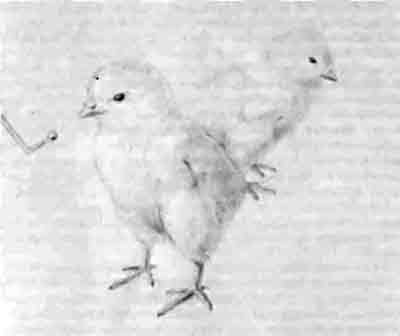
Глава 3.
Как возникают воспоминания
Когда год назад умерла моя мать, нам с братом пришлось разбирать ее вещи. Она жила в своем доме тридцать лет, почти все время одна, потому что отец умер через несколько месяцев после их переезда в этот дом, о котором они давно мечтали и на который десять лет копили деньги. В эти тридцать лет дом был подобием заботливо сохраняемого мавзолея, в котором мать играла роль смотрительницы. Она вела двойное существование: днем строгое и посвященное работе (пока за несколько лет до смерти не вышла на пенсию), а вечера и выходные дни проводила дома, сблизившись с мисс Хэвишем и посвятив себя сохранению того, что осталось ей от прежней, семейной жизни. Платье моего отца годами продолжало висеть в гардеробе, а некоторые его вещи мы нашли и после смерти матери. Это не удивило меня, но я совершенно не ожидал, что она хранила так много других предметов, сложенных в пыльных коробках на чердаке или на верхних, годами не открывавшихся, полках шкафов. Конечно, все мы храним письма любимых, распашонки детей, а позднее - их школьные сочинения. Но для моей матери это было только началом. У нее сохранялась воинственная переписка двадцатилетней давности с полицейскими инспекторами относительно штрафа за парковку машины в неположенном месте, нашлись корешки чековых книжек и банковские квитанции пятидесятых годов, театральные билеты и программы тридцатых годов - целый клад всевозможных мелочей.
Мать жила воспоминаниями. События повседневной жизни преломлялись для нее через призму прожитого. Когда ее приглашали в ресторан, подаваемые блюда, даже самые изысканные, она оценивала в сравнении с минувшими трапезами и находила их хуже, если они не вызывали ассоциаций с прошлым; тогда она смаковала их как бы ретроспективно. Ей нужно было постоянно обращаться к прошлому, чтобы существовать в этом мире, ощущать в нем свое место и само право на жизнь. Когда однажды дом ограбили и она лишилась части своих сокровищ - чайника, оставшегося еще от ее матери, и серебряной кружки, подаренной мне моей крестной по случаю обрезания, - она горевала не столько о самих вещах, сколько о тех частицах прошлого, которые ушли вместе с ними, оставив обедненным ее внутренний мир.
Казалось, что ее воспоминания хранились не в ней самой, а в этих вещественных свидетелях прошлого. Память была нужна ей, чтобы знать свое положение в окружающем мире, и чтобы сохранить ее, она окружала себя панцирем, оболочкой из вещей-напоминаний. Когда мы сложили костер в дальнем углу сада и сожгли остатки чековых книжек, мы точно так же похоронили ее, предав их огню, как на кладбище, когда опустили гроб в землю.
Конечно, не одна она с таким упорством сохраняла свидетельства прошлого, убеждавшие ее не только в том, что она продолжает жить, но и в том, что ее нынешняя жизнь неразрывно связана с предшествующей. Во всем мире ежесекундно звучат тихие щелчки тысяч фотоаппаратов и слабое жужжание видеокамер, с помощью которых мы фиксируем настоящее, будь то на пляже, на свадьбе, перед Тадж-Махалом или во дворике собственного дома. Что нам делать с этими миллионами изображений, свидетельствами того, что тогда мы жили, наблюдали, чувствовали, думали...? Большинство фотографий в моем доме лежит беспорядочными грудами в ящиках стола и в шкафах, дожидаясь дня, когда, может быть, будет рассортировано. Конечно, они хранят наши воспоминания или, во всяком случае, имеют к ним не меньшее отношение, чем искусственный «интеллект» компьютеров к настоящему, человеческому интеллекту.
Как и почему мы помним? Некоторые старые воспоминания, несомненно, подсказаны нам. Мать часто рассказывала мне об одном эпизоде из моего детства, начиная словами: «Ты, конечно, помнишь...». Я отвечал утвердительно, но никогда не знал, действительно ли она пробуждала во мне старое воспоминание или заново формировала его, внушая, что я должен помнить. Однако явно не все подсказано. Вот самое раннее из моих собственных воспоминаний: ночное небо, которое я вижу, когда меня, завернутого в одеяло, несут на плече в бомбоубежище в нижней части сада, принадлежавшего дедушке и бабушке.
Помню я и сами убежища: сначала это был выкрашенный желтоватой краской стол в металлической раме, под которым мы прятались, заслышав сирену, а позднее (хотя я не представляю, сколько прошло времени) - кирпичный сарай в саду, с койками, с которых свешивались ноги взрослых в носках. Никто другой не внушал мне эти воспоминания, потому что я четко видел описанные картины обостренным зрением ребенка. Подобно многим детским воспоминаниям, они не линейны, это не ряд последовательных событий, а скорее похожи на «фотографии», только дополненные осязательными ощущениями, звуками и запахами.
«Я сижу на чьих-то коленях, и меня кормят кашей. Тарелка стоит на серой, с красной каймой клеенке: сама тарелка чисто белая, с голубыми цветочками и отражает рассеянный свет, проникающий через окно. Наклоняя голову в стороны и вперед, я пытаюсь рассматривать предметы из разных положений. Когда я двигаю головой, блики на тарелке меняются, приобретают новые очертания. Неожиданно меня тошнит прямо в тарелку и на клеенку. Вероятно, это мое самое первое воспоминание». [1]
Этими словами великий шведский кинорежиссер Ингмар Бергман начинает свою автобиографию, созданную через 70 лет после описанного эпизода, и во многих его фильмах отражены хранимые в памяти события детства - запечатленные в мозгу моментальные снимки, которые трансформируются для всеобщего обозрения в движущиеся на экране образы.
Другой такой моментальный снимок - эпизод из празднования моего дня рождения. Мне исполнилось четыре года, и я вместе с гостями бегаю вокруг клумбы роз, раскинув руки, потому что изображаю, самолет. Но что было до и после этого остановившегося мгновения? Кто были мои гости? Был ли на празднике именинный пирог? Я не имею об этом понятия, не знаю даже, где находился сад, в котором мы играли в самолеты, подражая настоящим истребителям и бомбардировщикам, которые часто пролетали над нашими головами.
Конечно, в известной мере я преобразовал такие воспоминания. Одержимый желанием узнать, как глубоко можно заглянуть в собственное детство, я извлек эти хранившиеся в памяти фотографии, заново проявил и напечатал их, несколько по-иному обрезал, сделал матовыми или глянцевыми, черно-белыми или цветными, увеличил, чтобы они подошли к новым рамкам, т. е. сделал то же, что Бергман, который трансформировал свои воспоминания, чтобы показать их публике. Всякий раз, когда я вспоминаю эти события, я воссоздаю их заново. Сейчас, когда я пишу эти строки, они перестают быть воспоминаниями лондонских эпизодов моего военного детства начала сороковых годов и преобразуются - в процессе их воскрешения и описания - в память сегодняшнего дня.
Однако такое постоянное подновление воспоминаний не всегда необходимо. Около года назад я повстречал подругу детства и соседку, которую не видел несколько десятилетий. Она спросила, не помню ли я человека, который работал в саду моих и ее родителей, создавая оригинальные узоры из ярко-красных и белых крокусов. Я не припоминал такого. Но стоило ей назвать его имя - мистер Госс, - которое я не слышал и о котором не думал четыре десятка лет, и мне тут же четко представился его образ: сначала темно-синие брюки из грубой ткани, потом резиновые сапоги и, наконец, худое, обветренное лицо. Как эти признаки оставались связанными с именем, которого я не помнил все эти годы и которое как-то сохранялось в моем мозгу? Ведь при его упоминании образ его носителя отыскался в моей памяти гораздо скорее, чем если бы я стал искать одну определенную фотографию в беспорядочной кипе снимков, наваленных в шкафу. Как объяснить очевидную случайность запоминания - тот факт, что я смог воссоздать образ мистера Госса по слабому намеку, но не способен иной раз восстановить в памяти имя человека, с которым обедал две недели назад? Или я целиком придумал облик мистера Госса по подсказке моей знакомой? Чего в памяти больше, реальности или фантазии? У меня нет ответа.
Таковы вопросы, которыми я задаюсь и которым посвящена моя книга. Но почему меня это так интересует и какие ответы я хотел бы получить? Психоаналитики, несомненно, предложили бы свое объяснение и моим исканиям, и моей способности вспомнить мистера Госса спустя столько лет и... даже забыть его в промежутке. Быть может, Деннис Портер положил бы это объяснение в основу телесериала «Поющий ученый»? Марселю Прусту в его обитой пробкой парижской комнате вкус бисквитного пирожного, переработанный памятью в цикл романов, помог создать двенадцатитомную эпопею «В поисках утраченного времени». Но я не драматург, не романист, даже не психоаналитик и не объект психоанализа. Мои вопросы относительно памяти - это вопросы нейробиолога, ищущего способы расшифровать память как Розеттский камень мозга. Возможно, очерк моей собственной жизни поможет понять смысл тех поисков, которым посвящены следующие главы.
Я был предвоенным ребенком. В Британии слово «предвоенный» всегда означает период до 1936-1945 гг.: таким образом, речь не идет о десятках мелких неоколониальных войн, которые позже на протяжении 45 лет вела самая опытная в мире и, пожалуй, наиболее дорогостоящая армия. Во время Второй мировой войны мой отец, сионист и антифашист, ушел добровольцем в армию, и я рос у родителей матери в скромном пригороде северо-западного Лондона - одном из пунктов классического пути миграций евреев ашкенази, которые в начале века пришли из России и Польши и осели в восточной части Лондона. Они воспитали меня как прилежного школьника, респектабельного еврейского юношу, как старшего внука, потворствуя моему раннему развитию и, по мнению некоторых, так меня испортив, как не портили собственных старших сыновей и дочерей. Дело в том, что я начал читать детские книжки по естественной истории, излагавшейся в форме эволюционных «сказок просто так», которые сегодняшнее телевидение, благодаря Дэвиду Эттенборо, рассказывает гораздо лучше. Отец вернулся с войны, счастливый возможностью продолжать формирование подающего надежды интеллектуала. Когда мне исполнилось восемь лет, я получил в подарок «Происхождение видов» Дарвина и химический набор. По правде говоря, я смог продвинуться дальше первых глав полученной книги лишь спустя много лет, но идея была мне хорошо известна из книжек по естественной истории, прочитанных ранее. Теперь я каждую субботу просиживал с другими мальчиками в задних помещениях синагоги и объяснял им, пока меня не унимал педель, почему нет нужды выдумывать бога, чтобы понять, как человек произошел от обезьяны, а еще раньше - от амебы и как Земля была оторвана от Солнца проходившей поблизости звездой (популярная в то время теория). Что было до этого? Очень просто: Вселенная произошла в результате мощного взрыва, а перед тем вообще ничего не существовало; в это «ничего» было так же легко поверить, как в бога (я и сейчас не нахожу противоречий в безупречной логике этого постулата).
Эволюция служила теоретической основой, а химия давала метод. Я часами колдовал в садовой беседке, мыл пробирки и выполнял случайные поручения местного аптекаря в обмен на реактивы и химическую посуду (его сын впоследствии стал преподавателем биохимии в медицинском училище; по-видимому, сыграла роль жизненная среда). Мы ставили «опыты», пользуясь поваренной книгой (иногда они удавались), и проводили бесконечные часы, пытаясь получить взрывчатые смеси для изготовления ракетного топлива. Наука для меня была уже не только средством познания мира, но и средством его изменения, хотя я не читал Маркса даже в адаптированных для детей изданиях.
Чтобы поставить старшего сына на путь, ведущий наверх, мои родители поместили меня в привилегированную школу в северо-западном районе Лондона, в которой введено было много ограничений с целью оградить ее от давления проживавших в округе евреев - родителей школьников. Число евреев среди учеников не могло превышать 10%, дабы не портить репутацию заведения. Но именно эта привилегированная школа стала для меня ступенью на пути в ряды поборников социальных перемен в Британии. Опыты по запуску ракет в садовой беседке естественно привели к увлечению физикой и химией в школе. Иудаизм связывал бога и семью, и я не был в состоянии разорвать эту связь. Оглядываясь назад, я думаю, что отчаянно стремился вырваться из удушливой атмосферы городской окраины. Честолюбие, эскапизм и надежда получить стипендию привели меня в Кембридж, где я хотел изучать естественные и общественные науки, чтобы познавать и изменять мир.
Что служит ключом к пониманию Вселенной? Несмотря на учение Дарвина, биология в основном казалась лишь собранием историй о нашем мире, возможно, более правдоподобных, чем сказки Редьярда Киплинга, но не позволявших что-либо объяснять и, опираясь на объяснение, изменять и направлять. Химия, физика, математика - это были полноправные научные дисциплины, они объединяли мир, а не дробили его на осколки, из которых бессистемно складываются калейдоскопические фигуры. Упорядоченность, упрощение, выработку правил - все это, наверное, я стремился найти в науке.
Как в науке, так и в жизни? Я начал студенческую жизнь, будучи увлеченным, но не слишком сильным шахматистом, считая шахматы игрой, требующей только рассудочности и умения мыслить логически. Но, играя вечерами партию за партией, я стал, к своему недоумению, убеждаться, что некоторые соперники всегда обыгрывали меня, хотя я был уверен, что на самом деле они были ничуть не сильнее. Садясь с ними за доску, я теперь знал, что проиграю, еще до того как делались первые ходы. Уверенность в себе покидала меня по мере того, как росла у моих соперников, и я играл против них все слабее и слабее. Почему это происходило, почему эмоции (иррациональные эмоции) мешают успеху в такой чисто рассудочной игре, как шахматы? Я бросил их, не в силах преодолеть отвращение перед собственной неспособностью победить эту слабость, и стал играть в покер. Это игра, где успех зависит не от случая, а скорее от соревновательного настроя, при котором чувство превалирует над рассудком; к тому же она оказалась гораздо более прибыльной. Я понял, что рассудок нельзя отделить от чувства, как бы нам того ни хотелось. Но даже сегодня я часто ловлю себя на мысли, что мне грозит опасность забыть этот урок, хотя проблемы, для которых он важен, относятся к числу фундаментальных проблем стратегии моих исследований, а их разрешение должно было бы заложить основы стратегии жизни.
Между тем мягкая настойчивость моих университетских воспитателей побудила меня добавить к числу изучавшихся мною наук физиологию. Не имея формальной физиологической подготовки, не зная наружного строения организмов и взаимоотношений между ними, я начал знакомиться с функциями их кровеносной и дыхательной систем и даже с работой мозга. Как выяснилось, эти функции тоже подчиняются определенным правилам, поддаются математическому моделированию и изучению с помощью физических приборов, имеют определенную химическую основу. Я открыл для себя новую увлекательную область, пограничную между химией и физиологией, которая называлась биохимией; этого слова я никогда даже не слышал в школе. Стремление к новизне и явная неспособность к математике, все больше тормозившая изучение физики, однозначно определили выбор дальнейшей специализации.
Обстановка в Кембридже конца пятидесятых годов благоприятствовала занятиям биохимией. Собственно говоря, сама эта наука рождалась именно здесь в десятые - двадцатые годы нынешнего столетия, а с тридцатых годов биохимия Кембриджа, главой которой был Фредерик Гоуленд Хопкинс, занимала ведущее положение в мире. И хотя в пятидесятые годы популярность биохимии пошла на убыль и ее стала дерзко оттеснять более молодая соперница - молекулярная биологоя (в свою очередь возникшая в физических лабораториях Кавендиша, всего в двух сотнях метров от биохимического отдег она сохранила огромный интеллектуальный потенциал. Поэтому, еще будучи студентами, мы и бровью не повели, когда однажды утром, войдя в холл нашего отдела, нашли его залитым шампанским по случаю присуждения Нобелевской премии одному из наших учителей, Фредерику Сэнгеру, за расшифровку структуры небольшого белка - гормона инсулина. Это достижение представлялось нам столь же интересным, как открытие двойной спирали ДНК, сделанное в Кавендишских лабораториях тремя годами раньше Уотсоном и Криком (которые, как теперь всем известно, использовали рентгеноструктурные данные Розалинды Франклин).
Нам внушали, что за биохимией будущее, и многие из нас соблазнились этим. Лишь много позже я осознал, какое наследие оставил Гоуленд Хопкинс, сформировав стиль нашего отдела. Убежденный либерал, он создал свою лабораторию в тридцатые годы, чтобы дать работу целому поколению беженцев из нацистской Германии, которые впоследствии и в Англии, и в США заложили основы современной биохимии, за что получили целую кучу Нобелевских премий и увидели свои имена во всех учебниках: это были Ганс Кребс, Фриц Липман, Эрнст Чейн, Альберт Сент-Дьёрди и многие другие. Еще более примечательно то, что в лаборатории Хопкинса сложилась rpyппа молодых биологов левого направления, которые в тридцатые годы стремились изменить мир согласно социалистической доктрине и учению Маркса с такой же страстью, как развивать зачатки рациональной биологии. К их числу принадлежали Дж. Д. Бернал, Дж. Б. С. Холдейн, Дороги и Джозеф Нидхэмы. Не удивительно, что по наивности я принял остаточный радикализм окружения за радикализм самой биохимии.
Ко времени окончания мною университета в 1959 г. уже сформировалась молекулярная биология. Все яркие исследователи стремились работать в этой области. Мне представился случай взяться за диссертацию по вирусам для получения первой ученой степени, но я отказался. Строение ДНК и белков было уже известно, а что еще можно сделать в молекулярной биологии? Теперь нужно было использовать биохимические методы лля понимания функции, а что могло быть более загадочным, чем функция мозга? Каково самомнение, когда любой здравомыслящий человек мог бы увидеть, что начиналась великая эпоха молекулярной биологии, которую Гюнтер Стент ретроспективно назвал классическим периодом. В Кембридже предложить мне работу по биохимии мозга было некому, и мои наставники отправили меня назад в Лондон. Здесь я прибьы в огромную, красного кирпича психиатрическую клинику на холме Денмарк, где размещался институт психиатрии Модели.
Названный в честь выдающегося психиатра прошлого века, институт выглядел захудалым после оживленного Кембриджа: кучка беспорядочно разбросанных зданий в отнюдь не престижном районе южного Лондона, в которой по невежеству я не смог распознать центра, где формировались главные направления британской психиатрии во время и после Второй мировой войны. Однако очень скоро я воспрянул духом при мысли, что исследования, к которым я намеревался приступить, могли хоть в какой-то степени объяснить и улучшить состояние жалких существ, которые время от времени попадались мне в парке или в коридорах. Биохимический отдел занимал одно крыло относительно нового здания, довольно далеко отстоявшего от самой клиники. В нем работала горстка университетских преподавателей (хотя их преподавательская деятельность сводилась к минимуму и они в основном занимались исследовательской работой), а также лаборанты и студенты вместе с несколькими приезжими американцами.
Верховным руководителем этой маленькой империи был миниатюрный, но суровый шотландец Генри Мак-Илвейн, который до прихода в институт в конце 40-х годов занимался микробиологией. Поступив к нему в отдел со страстным желанием использовать биохимию для объяснения работы мозга, я вскоре понял, что моего нового шефа интересуют вопросы совсем иного рода. Мозг потребляет непропорционально большое (по отношению к его весу) количество кислорода и глюкозы, поступающих из кровяного русла, и работа лаборатории некоторое время была посвящена выяснению причин этого. Значительная часть этих веществ используется при синтезе одного из ключевых биохимических агентов - аденозинтрифосфата, или АТФ, как принято сокращать это название. Применяя в качестве метки радиоактивный фосфор, Мак-Илвейн со своими сотрудниками показал, что АТФ в свою очередь используется при биосинтезе белков особого типа - фосфопротеинов, которые в большом количестве содержатся в мозгу. Их роль оставалась непонятной, но было известно, что при повышении электрической активности мозга в них возрастает включение радиоактивного фосфора. И вот мне было поручено попытаться получить в чистом виде и идентифицировать те ферменты мозга, которые участвуют в синтезе и расщеплении фосфопротеинов.
Хотя я не мог понять, каким образом изучение этих ферментов помогало «решить проблему мозга», эта работа была мне по силам благодаря хорошей биохимической подготовке. Когда я взялся за нее, то попытался найти ей место в общей стратегии исследований и разобраться в специфике работы лаборатории, в которую забросила меня увлеченность проблемами мозговой деятельности. Очень медленно я начинал понимать, что вопреки своей неброской внешности явно антихаризматичный Мак-Илвейн был ключевой фигурой в только еще зарождавшейся тогда (50-е и начало 60-х гг.) новой научной дисциплине - нейрохимии, или биохимии мозга.
Наименования чрезвычайно важны в науке. В начале нынешнего века, еще до появления биохимии как самостоятельной дисциплины, разрозненные группы исследователей интересовались применением химических методов для изучения физиологических процессов и уже разрабатывали на некоторых факультетах университетов проблемы биологической химии или химической физиологии. Собираясь вместе для обсуждения вопросов, представлявших взаимный интерес, на заседаниях существовавших тогда физиологических и химических научных обществ они делали первые шаги к завоеванию независимости. Затем они начали проводить собственные специализированные конференции, стали называть себя биохимиками; были созданы новое общество и новое издание для публикации исследований - «Биохимический журнал» (Biochemical Journal) - два наиболее чтимых атрибута научного истэблишмента. В США ученым нового профиля не удалось так решительно порвать с прошлым: их журнал, основанный примерно в то же время, что и «Биохимический журнал» в Англии, даже теперь, после выхода 260 томов, сохраняет название «Журнал биологической химии» (The Journal of Biological Chemistry). При наличии общества и журнала исследовательская группа приобретает известный корпоративный статус: формирует собственные научные традиции и критерии достоверности, определяет важные и второстепенные проблемы и проверяет правильность оценок, публикуя посвященные им статьи. Еще важнее то, что для развития новой дисциплины в университетах создаются новые отделы или факультеты, которые начинают готовить собственных специалистов, предоставляя им возможности для научной работы и продвижения по служебной лестнице. В этом смысле биохимия была повсеместно признана как наука в конце Второй мировой войны.
Каково же было положение тех, кому было тесно в рамках старой биохимии и кто хотел разрабатывать ее применительно к какой-нибудь специальной проблеме (например, к проблеме развития и деления клетки) или к отдельной ткани, в нашем случае ткани мозга? В 50-х годах в различных биохимических лабораториях страны, даже в Кембридже, работали лишь единичные ученые, интересовавшиеся вопросами мозговой деятельности. Для большинства других мозг был просто удобным источником ткани, подобно печени или мышцам. Действительно, самые ранние биохимические исследования иногда проводились на мозге голубей; однако их цель состояла не в познании специфических особенностей мозга, а в решении общих проблем биохимии, касающихся любой животной ткани. Постановка такой универсальной задачи выглядела вполне оправданной ввиду значительного сходства биохимических процессов не только в разных тканях одного организма, но и у самых разных видов (например, АТФ был обнаружен у мух и грибов, у человека и в листьях дуба). Мы всегда пытаемся совместными усилиями выявить и всеобщие, и уникальные признаки изучаемых нами систем.
Тем не менее новое поколение биохимиков мозга, подобно прежним специалистам по биологической и физиологической химии, хотело общаться не только с теми, кто работал на печени, почках или тканях растений, но прежде всего с другими учеными, имевшими дело с мозгом. Кроме того, нужны были контакты с представителями ряда давно сформировавшихся дисциплин, тоже занимавшихся мозгом, - нейрофизиологами, нейроанатомами, возможно даже с психологами. Но здесь возникла неожиданная дилемма. Как ни странно, оказалось, что не только биохимики в большинстве своем не склонны были признать особое положение мозга среди других тканей, но даже представители отдельньк областей нейробиологии не особенно отстаивали его. Биохимики со своими методами измельчения и гомогенизации тканей и экстракции из них очищенных веществ обычно разрушали все специализированное и уникальное в мозгу, уничтожали сложную упорядоченную сеть нервных клеток с их затейливой формой и необычными электрическими свойствами. Однажды, когда я делал срезы мозга и готовился провести анализ, измельчая ткань в гомогенизаторе - этом лабораторном варианте кухонного миксера, в лабораторию пришел мой знакомый, занимавшийся разработкой математических моделей взаимодействия между нервными клетками. Понаблюдав с минуту или две за моей работой, он грустно покачал головой и, вздохнув, промолвил: «Вот и разрушена вся организация». С этими словами он вышел и больше никогда не приходил.
Таким образом, биохимики мозга оказались как бы в подвешенном состоянии, где-то между мозгом и биохимией. Под руководством Мак-Илвейна они сделали первые необходимые шаги: изобрели новое название для своей дисциплины - «нейрохимия», основали печатный орган «Журнал нейрохимии» (The Journal of Neurochemistry) и даже организацию - Международное общество нейрохимиков, которое до сих пор каждые два года проводит съезды. Однако им не удалось окончательно освободиться из-под власти науки-прародительницы (в частности, в Великобритании нет национального общества нейрохимиков - они объединены в одной из секций Биохимического общества). Университеты не спешили организовывать новые отделения нейрохимии, поэтому они возникли только в специализированных институтах вроде Института Модели. Но и там приходилось убеждать представителей давно сложившихся наук о мозге в необходимости занятий нейрохимией; с подобной проблемой никогда не сталкивались некоторые другие дисциплины, такие, например, как фармакология. По-видимому, физиологам и психиатрам было гораздо легче признать важность фармакологии, поскольку лекарственные средства - предмет этой науки - влияют на поведение.
Мак-Илвейн практиковал классический биохимический подход. Задолго до него биохимики установили, что если взять кусочек животной ткани, например печени, затем с помощью бритвенного лезвия сделать из него тонкие срезы и поместить их в ванночку с подходящей смесью солей и глюкозы, подогреваемой до температуры тела, то в биохимическом отношении ткань будет вести себя примерно так же, как в живом организме. Она по-прежнему будет использовать кислород для сжигания глюкозы, выделяя С02, синтезируя белки и выполняя множество других сложных функций на протяжении по меньшей мере нескольких часов. Это позволяет изучать протекающие в живых клетках процессы на тканевых срезах с такой точностью и в условиях такого строгого контроля, которые совершенно немыслимы при работе с целым организмом. Мак-Илвейн исследовал этим способом ткани мозга, а затем сделал следующий шаг. Уникальные свойства мозга, рассуждал он, связаны с его непрерывной активностью. Значительная часть этой спонтанной активности утрачивается в процессе подготовки срезов. А как пойдут биохимические процессы в срезе, если стимулировать его электрическую активность, пропуская через него короткие электрические импульсы?
Мак-Илвейн проводил такие эксперименты в середине и конце 50-х годов и установил, что пропускание электрических импульсов через срезы мозговой ткани (в отличие от тканей других органов) сопровождается резким повышением использования глюкозы, кислорода и АТФ, особенно для биосинтеза фосфорилированных белков, механизм которого мне предстояло изучать. Для Мак-Илвейна это было свидетельством сохранения «физиологической дееспособности» ткани. Поскольку в срезах имитировались ключевые процессы мозга, их изучение могло бы пролить свет на функциональную биохимию этого органа. Физиологи были настроены скептически. Чувствуя, что в их науку внедряются эти ужасные биохимики со своими совершенно чуждыми идеями и языком, они поставили наблюдения Мак-Илвейна под сомнение, утверждая, что данные, полученные на таких необычных препаратах, как стимулируемые электрическим током тканевые срезы, не имеют никакой ценности: эти иссеченные фрагменты ткани почти мертвы, а их реакции - всего лишь спазмы агонизирующих клеток.
К тому времени как я поступил в отдел (1959 г.), в этой войне установилось с трудом достигнутое на основе взаимных уступок перемирие. Книга Мак-Илвейна «Биохимия и центральная нервная система» [2] (обратите внимание на осторожное «и»; позднейшие авторы не поколебались бы написать просто «Биохимия центральной нервной системы») стала настольной для всех, кто причислял себя к нейрохимикам, однако она ограничивалась инвентаризацией биохимических особенностей мозговой ткани, не слишком углубляясь в размышления о том, что все это может значить или каким образом знание уникальньгх химических компонентов мозга и их взаимопревращений может помочь пониманию его функций. Фосфо-протеины Мак-Илвейна и его срезы сошли со сцены в конце 60-х и в 70-е годы. Но по прошествии десяти с небольшим лет интерес к ним возобновился: оказалось, что некоторые фосфопротеины играют центральную роль в механизмах памяти, и сегодня моя лаборатория использует современные варианты тех методов, которые я изучал у Мак-Илвейна почти тридцать лет назад.
Я, правда, не уверен, что здесь нет какого-то странного совпадения. Мода в науке, как и в одежде, имеет обыкновение повторяться, хотя осознанные мотивы здесь имеют меньшее значение. К началу семидесятых годов битва Мак-Илвейна с окопавшимися физиологами за самостоятельность нейрохимии и признание правомерности работы на тканевых срезах воспринималась уже как исторический эпизод. Новое, более уверенное в себе поколение не интересовалось уже старыми спорами физиологов и биохимиков, и оно дало своей науке более всеобъемлющее название «нейронаука» (neuroscience). В США, Европе и даже в бывшем Советском Союзе нейронаука сразу же овладела воображением, поскольку давала возможность преодолеть устоявшиеся границы между научными дисциплинами и открывала путь в будущее, одновременно получая все большую долю ассигнований на исследования и привлекая все большее внимание средств массовой информации. Нейрохимия как самостоятельная научная дисциплина никогда не имела шансов на выживание; теперь же, в составе комплекса наук о мозге, который собственно и называется нейронаукой, ее существование, по-видимому, надежно обеспечено. Единственная трудность состоит в том, что организационные формы гораздо жестче, чем втиснутые в них науки. Американское Общество нейробиологов в настоящее время является, по-видимому, самым крупным научным обществом в мире: его ежегодные съезды собирают чудовищно большое число участников - до четырнадцати тысяч. Его младший (по числу членов, но не по научному уровню) европейский партнер - Европейская ассоциация нейронауки - насчитывает примерно 3000 активных членов. Однако нейрохимики старой школы сохраняют свои независимые общества, журналы и конференции, остаются верными традициям 60-х годов и, очевидно, не в состоянии пожертвовать своей с таким трудом завоеванной независимостью ради лучшей доли.
Оглядываясь назад, я рассматриваю собственное продвижение от химии к биохимии и от биохимии к нейрохимии как одно из слагаемых в последующем появлении новой генерации нейробиологов. Через несколько лет после получения степени доктора философии, в середине 60-х годов, я вошел в небольшую группу единомышленников - физиологов, анатомов, психологов, и мы основали первое нейробиологическое общество в Великобритании и, вероятно, в мире - Ассоциацию исследователей мозга. Мы исходили из того, что каждая отдельная дисциплина, изучающая мозг, не в состоянии целиком охватить этот объект и что необходимо найти общий язык и взаимопонимание, чтобы приблизиться к его познанию. Ассоциация отличалась от всех других научных обществ, которые я знал до той поры. Мы обсуждали научные вопросы на неформальных собраниях в комнате над одним из лондонских пабов. Соблюдались только три правила: выступления должны быть понятны всем присутствующим и не должны ограничиваться специальными вопросами биохимии и физиологии; на протяжении всего заседания участникам предлагалось неограниченное количество пива; и наконец, на собрания не допускались профессора, чтобы присутствующие чувствовали себя свободно и не стеснялись в выражении своих мыслей. Со временем Ассоциация исследователей мозга превратилась в национальное научное общество с филиалами в разных городах, а мы, его основатели, постарели, приобрели респектабельность и в свою очередь стали профессорами. Поэтому третье правило постепенно отпало, хотя неформальный характер собраний во многом сохранился.
Приобретя имя и облик, нейронаука стала более привлекательной для исследователей иного профиля, особенно для молекулярных биологов, которые уверовали (точно так же, как и я лет десять назад) в то, что будущее принадлежит изучению мозга. Молекулярная биология - это такая область, где любая публикация через полгода устаревает; если же прошел год и вам все-таки приходится читать статью - значит, она стала «классикой», а еще более старые публикации имеют уже только архивный интерес. Не зная истории, эта новая группа - «молекулярные нейробиологи» (!) - начала сама решать, что представляет наибольший научный интерес. Старые биохимические методы и срезы Мак-Илвейна были вытеснены новыми подходами, такими, как использование антител, клонирование и другие манипуляции с ДНК и РНК. Исследователи начали уже забывать, что мозг - это сложная структура, а не просто мешок с различными веществами. (Отношения между нейрохимиками и молекулярными биологами (и даже молекулярными нейробиологами) остаются несколько напряженными. Молекулярным биологам нейрохимия кажется безнадежно устарелой, а нейрохимикам... На ежегодном обеде, устроенном по случаю их последней международной встречи, был рассказан веселый анекдот о том, как группа террористов захватила в качестве заложников трех ученых: вирусолога, нейрохимика и молекулярного биолога. Но акция расстроилась, и заложников нужно было расстрелять. Во имя милосердия каждому дали возможность рассказать, что хорошего может дать его наука человечеству, с тем чтобы пощадить автора самого убедительного рассказа. Вирусолог поведал об открытии ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) и был тотчас же застрелен. Потом настала очередь молекулярного биолога, но не успел он начать рассказ, как нейрохимик воскликнул: «Убейте меня, убейте меня! Я не желаю еще раз слышать, что молекулярная биология открывает нам путь в будущее!») Когда в восьмидесятых годах сами молекулярные биологи начали обращаться к физиологическим аспектам, они заново изобрели работу на срезах, по-видимому, не имея представления о том, как эта методика разрабатывалась двумя десятилетиями раньше. Мак-Илвейн и его новаторские исследования стали жертвой коллективной научной амнезии, но потом круг замкнулся и мы получили еще одно подтверждение, что мода в науке повторяется. Сейчас в моей лаборатории снова работают со срезами.
В Институте Модели я провел два года, занимаясь очисткой одного из ферментов обмена фосфопротеинов, написал свои первые научные статьи и диссертацию на степень доктора философии.
К сожалению, я мало что узнал о мозге и его функции, так как никто не позаботился дать мне эти знания и я не имел понятия, где их можно получить. Я читал работы, дававшие некоторое представление о том, как следует приступить к очистке моего фермента, освоил несколько других биохимических методов и даже научился отличать верхнюю часть мозга от нижней. Последним я был обязан тому, что, узнав кое-какие свойства фермента с мудреным названием «фосфопротеинфосфатаза», я захотел выяснить его локализацию в мозгу.
Интересно было, например, узнать, не больше ли его в сером веществе, т. е. в коре мозга, плотно набитой нервными клетками, чем в белом веществе, где проходят нервные волокна? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно было иметь сравнительно крупные фрагменты мозга, более крупные, чем я мог получить от наших лабораторных крыс и морских свинок. И вот я стал по утрам заходить на бойню Йорк-Роуд в те дни, когда там забивали скот для получения кошерной говядины. Дело здесь не в моей этнической принадлежности, а в том, что при обычном забое животному наносят удар по голове, после которого мозг превращается в месиво, тогда как мне он нужен был неповрежденным. Для получения кошерного мяса животному перерезают горло и дают стечь крови. Получив несколько шиллингов, мясник вырезал мозг и отдавал его мне (не знаю, что по этому поводу думали раввины, надзиравшие за процедурой). Я клал мозг в термос со льдом, мчался в лабораторию и просил кого-нибудь из коллег показать мне расположение отделов мозга, о которых раньше имел представление лишь по выцветшим этикеткам с латинскими названиями на анатомических препаратах мозга и которые теперь видел в форме хорошо различимых клеточных масс. То, что оставалось, я забирал домой на ужин и какое-то время не только жил, но и буквально кормился наукой (о, невинность тех дней, когда мы не думали о холестерине...). Результаты изучения фосфопротеинов, полученных таким путем, составили первую серию моих печатных работ.
В Великобритании соискатель степени доктора философии - этот тот же подмастерье. В отличие от США, где существует формальная система подготовки, у нас вам назначают руководителя, дают тему и предоставляют самому себе. Если вас и обучают будущей специальности, то почти по принципу Уокфорда Сквирса: «Вот ты, составь по буквам слово «окно», а потом поди и протри его». Иными словами, вы приобретаете знания в процессе работы, наблюдая за старшими коллегами, пользуясь советами тех из них, с кем удается побеседовать. Именно поэтому желательно иметь в лаборатории побольше научных сотрудников, от которых недавние выпускники могут почерпнуть кое-какие знания, пока их официальный руководитель читает лекции, заседает или вообще уезжает, чтобы принять участие в работе важной конференции. Подобно тому как естественные науки требуют коллективного труда (в отличие от индивидуальной деятельности представителей общественных дисциплин), так выпускники университетов, посвящающие себя науке, извлекают пользу из совместной работы в открытой лаборатории, перебраниваясь по поводу испачканной кем-то посуды, выясняя, кто зарезервировал время для работы с центрифугой или использовал последнюю сохранившуюся в лаборатории пипетку, в атмосфере, где иерархия практически мало ощущается. За несколько месяцев пребывания в такой лаборатории недавно еще почтительный студент сживается с ее атмосферой непринужденности и критики, привыкает не верить 90 процентам прочитанного, особенно если оно написано кем-то из соперничающей лаборатории, и очень скоро избавляется от преклонения перед научными авторитетами.
Опасность состоит в том, что вы, увлекшись своей узкой задачей, начнете видеть в диссертации, которую вам предстоит написать, некий magnum opus - итоговый труд по данной теме объемом никак не меньше 450 страниц, со списком литературы из десятка тысяч названий, с размышлениями о смысле жизни в заключительной части и упоминанием важной теории, которую помогли создать ваши скромные исследования. Подобные диссертации зачастую так никогда и не завершаются, они все большим и большим грузом висят на соискателе, их окончание постоянно откладывается под предлогом улучшения и шлифовки. Правда, моя диссертация была намного короче, я стремился закончить ее и уйти из института, где я чувствовал себя не в своей тарелке. Меня, привыкшего еще в студенческие годы к атмосфере споров о природе жизни и смысле науки, угнетали здешняя тяжелая приземленность и отсутствие порыва. (Конечно, я был заражен корпоративной самоуверенностью кембриджского студенчества и усвоил его интеллектуальные амбиции в такой степени, что так никогда и не освободился от них, а это хоть кого приучит к мысли о невозможности жить иначе, как в щадящей атмосфере золотого века.)
Но даже и моя диссертация скромно выдвигала великую теорию, пытаясь доказать на основании неубедительных данных, что смысл жизни (или по крайней мере мозга) заключен в фосфопротеинах. Случилось так, что через 20 лет важное значение фосфопротеинов стало несомненным, но к тому времени уже никто, даже я сам, не помнил и не интересовался, о чем я писал в той дорого доставшейся мне заключительной главе. (Скажите соискателю, что его выдающийся труд прочтут только научный руководитель, два оппонента да один-два товарища, после чего он будет отправлен в университетский архив и больше его никто никогда не увидит (я не говорю о следующем поколении соискателей, которые могут откопать его в поисках ответа на вопрос, как нужно - или как не нужно - писать диссертацию).)
Мой оппонент, Ганс Кребс, с непреклонностью, подобающей оксфордскому профессору, да еще лауреату Нобелевской премии и экспериментатору, воспитанному в духе немецкой дисциплины, сразу забраковал последнюю главу. Он нашел в ней слишком много философии и три орфографические ошибки, которые вежливо попросил меня исправить. Потом состоялась обычная процедура, и я был «остепенен». Кребс был прав: истинная ценность диссертации не имеет ничего общего с этим высокопарным теоретизированием. Диссертация лишь удостоверяет, что пришел конец ученичеству. Обладатель ученой степени способен самостоятельно вести исследования, и его выпускают в житейское море, где он либо выплывет, либо утонет.
Для меня это снова означало расставание с Лондоном и начало страннической жизни независимого исследователя. Кребс принял меня на три года в свой биохимический отдел, а Новый Колледж, один из колледжей Оксфордского университета, выделил мне еще одну субсидию, и у меня появилась возможность выбирать направление дальнейших исследований. Имя Кребса знает любой биохимик благодаря открытию им двух важнейших путей обмена веществ: окисления глюкозы до СО2 в клетке (известного как цикл Кребса) и образования мочевины (за что он получил Нобелевскую премию). Этот человек жил исключительно своей работой и в рамках иерархических представлений, усвоенных им от собственных учителей, предоставлял младшим коллегам ходить на поводке такой длины, что на нем можно было бы даже повеситься.
Вероятно, то была чрезмерная свобода. Размышляя над некоторыми положениями своей диссертации, я начинал немного больше задумываться над функцией фосфопротеинов, с которыми работал, но по-прежнему в строго биологическом плане. Я задавался вопросом, какова их роль в энергетике клетки. В результате этих размышлений я провел несколько не очень умных экспериментов (хотя тогда я был удовлетворен ими); теперь я думаю, что правильно ставил задачу, но не имел средств решить ее. Исследование - это прежде всего искусство формулировать вопросы, которые должны быть интересными и иметь ответы. Самые интригующие вопросы часто недоступны для экспериментального исследования, так как существенные для нас эффекты очень слабы, чтобы их можно было регистрировать имеющимися методами, или невоспроизводимы из-за невозможности контролировать все переменные. С другой стороны, ставя тривиальные вопросы, мы можем получать множество столь же тривиальных ответов. Задача состоит в том, чтобы проложить правильный курс между тривиальным и недостижимым. Иммунолог Петер Медавар однажды назвал это «искусство разрешимого». На протяжении большей части моей жизни в науке многие мои коллеги-биохимики были убеждены, что изучение памяти лежит за пределами круга разрешимых задач; лишь в последние годы у них появился известный оптимизм, и многое из того, о чем говорится в этой книге, касается причин, порождавших сомнение в прошлом, и оснований для нынешних надежд.
Не прошло и двух лет, как ограниченная классовыми и корпоративными предрассудками система колледжей в Оксфорде и возникшие расхождения с Гансом Кребсом по ряду вопросов (научная политика, выбор направлений исследования, сочетание лабораторной работы с личной жизнью) снова привели меня в Лондон. Там был новый отдел Имперского колледжа, организованный Чейном - другим изгнанником, тоже лауреатом Нобелевской премии. Будучи на несколько лет моложе Кребса, Эрнст Чейн получил эту премию за свои исследования в составе группы, базировавшейся в Оксфорде, которая в сороковые годы разработала способ массового производства пенициллина. Чейн родился в России, а образование как биохимик-микробиолог получил в Берлине. Спасаясь от нацизма, он в тридцатые годы бежал в Англию, но после войны переехал из Оксфорда в Рим, где итальянское правительство давало ему карт-бланш на организацию крупного института. В начале шестидесятых годов его соблазнили вернуться в Англию, где в Саут-Кенсингтоне строился новый отдел лондонского Имперского колледжа. Чейн в отличие от Кребса считал необходимым самому следить за работой всех своих сотрудников. Идеи, родившиеся без его участия, отвергались, хотя его собственный образ мышления не отличался ни гибкостью, ни богатством воображения, поскольку активную исследовательскую работу он давно уже променял на организационную и консультативную. Имя Чейна всегда фигурировало в числе соавторов всех работ, выходивших из отдела, каким бы скромным ни был его личный вклад. Этим он резко отличался от Кребса, который был исключительно щепетилен и подписывался только под теми работами, в которых принимал непосредственное участие.
Формированию авторитарного стиля особенно способствовало то, что по приезде в Англию Чейн получил для организации исследовательского отдела средства от Совета по медицинским исследованиям - главной государственной организации, финансирующей медицину и биологию в Великобритании. Научные сотрудники, принятые в такой отдел, в отличие от университетских преподавателей работают главным образом по краткосрочным контрактам, разрабатывая темы, предложенные директором (так обстоит дело и сегодня, хотя число подобных отделов сократилось в результате изменения научной политики и сокращения финансирования). По этой причине даже ведущие сотрудники попадают почти в крепостную зависимость от директора. Если он (местоимение мужского рода, я полагаю, очень уместно в данном случае) переходит в другой институт, что случается нередко, то весь его штат следует за ним или рискует остаться без работы. Поскольку Чейн набирал сотрудников в новый отдел, еще оставаясь в Италии, нам пришлось переехать в Рим до завершения организации лаборатории. Проведенный там год был не очень плодотворным в отношении научных публикаций, зато у меня было время написать мою первую книгу: небольшое биохимическое эссе под названием «Химия жизни», которое читают и сейчас, после выхода нескольких изданий.
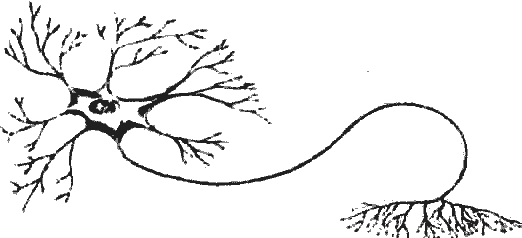
Рис. 3.1. Нейрон. Обратите внимание на тело клетки с хорошо заметным ядром. От тела отходят древовидные дендриты, усеянные мелкими шипиками, и длинный аксон, разделяющийся на конце на веточки, каждая из которых несет синаптическое окончание, контактирующее с дендритами или телами других клеток. Нейроны могут иметь разнообразные размеры и форму, но у них всегда можно различить клеточное тело, дендриты, аксон и синапти-ческие окончания.
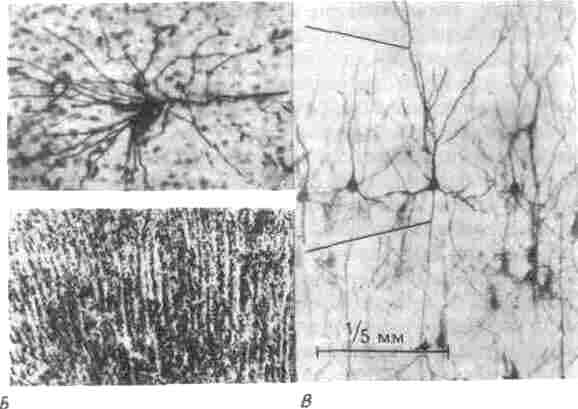
Рис. 3.2. Нейроны головного мозга. Микрофотографии, полученные с помощью светового микроскопа, две из них (А, В) - после окрашивания по методу Гольджи, которое выделяет только некоторые нейроны, но целиком, с клеточными телами, дендритами и аксоном. Темноокрашенные клеточные тела имеют примерно 2-10 мкм в диаметре (1 мкм - это миллионная доля метра).
Микробиолог по образованию, Чейн под влиянием совей жены - биохимика Энн Беловой - стал интересоваться метаболизмом мозга и дал мне тему по использованию энергии в этом органе. Но к тому времени я уже лучше знал, какие хочу вести исследования. Если я не найду способа применить мои биохимические знания для изучения функций мозга, я с таким же успехом могу работать на печени или на пальцах ног. Определить будущее мне в это время помогла одна статья: я наткнулся на обширный обзор Холгера Хидена из Швеции, в котором он описывал и свои исследования. Это была работа такой изысканной точности, что у меня захватило дух.
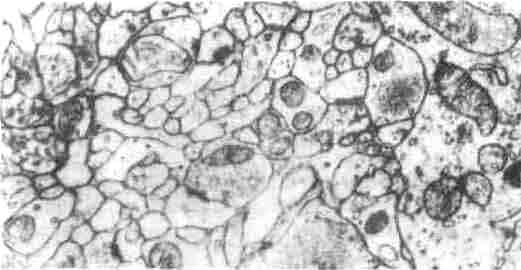
Рис. 3.3. Электронная микрофотография мозговой ткани. На таких препаратах динамичная структура мозга навсегда «заморожена» и предстает в виде запутанной массы нейронов, глии, дендритов, аксонов и синапсов.
Мозг состоит из огромного количества нервных клеток (нейронов), число которых у человека, возможно, достигает двадцати миллиардов (рис. 3.1-3.3). Однако даже это невероятное множество кажется не столь большим, когда узнаешь, что каждый нейрон погружен в массу гораздо более мелких клеток, называемых глиальными, роль которых была и остается еще менее изученной, чем роль нейронов; очевидно, они выполняют опорную, питательную и защитную функции. На каждый нейрон приходится, вероятно, по десятку клеток глии. Таким образом, биохимический анализ проб мозговой ткани означает изучение смеси нейронов и глии. Если функциональная активность мозга действительно связана с нейронами, то нужно изучать их свойства отдельно от свойств глии. Но как? В шведских лабораториях существует многолетняя традиция разработки микрометодов для анализа малых количеств материала. Хиден развил эту традицию до крайнего предела. Он выбрал определению область мозга с нервными клетками относительно больших размеров - что-нибудь около 30 миллионных долей метра (30 мкм) в диаметре. Кусочек ткани с такими клетками он помещал под секционный микроскоп, предварительно аккуратно обработав их синим красителем, чтобы сделать видимыми, и с помощью тонкой проволочки с заостренным как нож краем отделял каждую крохотную нервную клетку от окружающей массы глии. Таким образом он получил несколько десятков нейронов и сравнил их с соответствующим количеством глии. Он ухитрялся даже прокалывать клетку, словно миниатюрный воздушный шарик, приподнимать ее наружную оболочку (клеточную мембрану) и вытряхивать все содержимое, получая пустую оболочку для дальнейшего анализа. На протяжении 50-х годов Хиден с помощью знаменитых шведских микрометодов скрупулезно измерял утилизацию кислорода и определял ДНК, РНК и белки в таких изолированных клетках, сравнивая биохимические свойства нейронов и глии. Их различие наверняка пролило бы некоторый свет на специализацию нервных клеток для осуществления их уникальных функций.
Но Хиден пошел дальше, словно всего этого было еще мало. Он стал применять свои новые методы для изучения функциональных биохимических изменений в нервных клетках. Он спрашивал себя: не будут ли свойства клеток меняться под влиянием прошлого опыта крыс и кроликов, из мозга которых мы их выделим? Хиден начал изучать крупные клетки из глубинного участка, имеющего отношение к чувству равновесия. Он помещал кроликов в устройство, напоминающее детскую карусель, а крыс обучал осторожно взбираться по наклонно натянутой проволоке, к верхнему концу которой прикреплялась приманка. Оказалось, что изменение поведения у животных, несомненно, сопровождается изменениями свойств РНК и белка в нейронах, но не в глиальных клетках. Хиден разработал теорию, согласно которой следы памяти хранятся в мозгу в виде структурно-измененных молекул.
В наши дни о Хидене, как и о многих других первопроходцах, почти не вспоминают. Его микрометоды были совершенно уникальны, и другие лаборатории не могли или не желали воспроизвести их. К концу семидесятых годов сложилось мнение, что данные Хидена сомнительны или статистически недостоверны; на смену пришли новые методы и модели. Но шестидесятые годы были апофеозом Хидена. Он не переставал выступать на конференциях и семинарах, где часто приходилось слышать его низкий голос и медленную шведско-английскую речь, а его доклады иллюстрировались изумительными фотографиями клеток, выделенных с помощью микрометодов. Верю ли я теперь в эти работы? В шестидесятых - начале семидесятых годов я несколько раз приезжал в его лабораторию и заражался общим скептицизмом относительно специфичности его результатов. Но я сам наблюдал, как он с поразительным изяществом вырезал отдельные клетки, и у меня не оставалось сомнений, что по крайней мере методика его была вполне адекватной [З].
В конце XVII века голландский торговец Антони ван Левенгук изобрел микроскоп нового типа. Проводя с его помощью наблюдения, он впервые в истории человечества описал невидимый до того мир микроорганизмов (он назвал их анималькулами), которые тысячами кишели в каждой капле прудовой воды. Он зарисовывал их с поразительной точностью. Посмотрите в микроскоп Левенгука сегодня, и если вам вообще что-то удастся увидеть, считайте, что вам повезло - настолько малы и несовершенны были линзы по современным стандартам. Многие его современники были настроены скептически: они не видели того, что видел он и, возможно, были по-своему правы. Но прав был и Левенгук. Анималькулы были реальны, и открытие их перевернуло наши представления о мире живого. Может быть, Хиден - это сегодняшний Левенгук? Не следует, однако, забывать, что Левенгук рассмотрел также человеческую сперму и описал отдельный сперматозоид как подобие совершенного по форме крошечного гомункулуса, укрепив тем самым давний преформистский предрассудок относительно нашего размножения, который был изжит лишь столетие спустя.
Каким бы ни был окончательный приговор по поводу экспериментов Хидена, в свое время они гальванизировали работу нейрохимиков. Стало ясно, что биохимические методы действительно можно использовать для изучения функций мозга, включая даже память. И я сделал свой выбор.
Но как приступить к исследованиям? Микрометоды Хидена были мне недоступны, а Чейн, как всегда, скептически отнесся к моим намерениям. Если ключевым требованием бьыо отделение нейронов от глии, то, вероятно, я мог бы поискать другой способ достижения той же цели. К концу пятидесятых годов у биохимиков накопился уже целый арсенал общих методов изучения клетки. Один из них - центрифугирование - использовался для разделения клеток на различные компоненты. Работа лабораторной центрифуги основана на том же принципе, что и отжимание белья в бытовой стиральной машине. При очень быстром вращении содержащаяся в материи вода оттесняется к стенкам камеры и вытекает из нее. В биологической центрифуге пробирки с суспензией частиц вращаются с очень высокой скоростью, до 70 000 оборотов в минуту. По мере вращения суспендированные частицы под действием центробежной силы (до 500 000 g) движутся по направлению к дну пробирки тем быстрее, чем они тяжелее. Представьте теперь, что я беру кусочек мозга и измельчаю его в гомогенизаторе. Клетки разрушаются, а их компоненты переходят в суспендированное состояние. К числу таких компонентов принадлежат разнообразные субклеточные структуры, в частности клеточные ядра, содержащие ДНК, и митохондрии, в которых находятся ферменты цикла Кребса и синтезируется АТФ. Подбирая нужные сочетания продолжительности и скорости центрифугирования, можно разделять и собирать отдельные фракции клеточных компонентов. При одной из модификаций этого метода суспензию частиц вращают в растворе сахарозы, наиболее концентрированном у дна пробирки и все сильнее разбавленном в верхних слоях. Чем выше концентрация раствора, тем больше его плотность, поэтому в пробирке создается градиент плотности, направленный сверху вниз. При центрифугировании субклеточных частиц в таком градиенте они под действием центробежной силы оседают до тех пор, пока не окажутся в зоне, где их плотность и плотность раствора одинаковы. Здесь они останавливаются, уже не будучи в состоянии опуститься ниже.
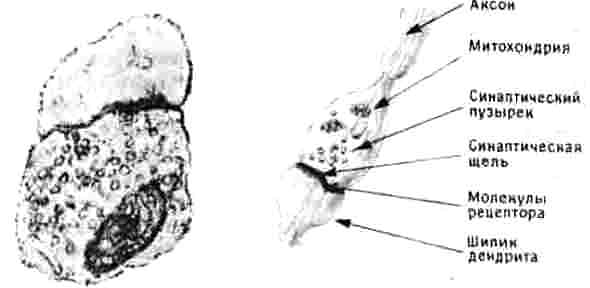
Рис. 3.4. Синапс. Слева - электронно-микроскопическая картина синапса после удаления окружающего фона. Справа - рисунок, сделанный художником. Приходящие по аксону нервные импульсы вызывают освобождение молекул нейромедиатора из мелких пузырьков пресинаптического окончания. Медиатор диффундирует через синаптическую щель к шипику на дендрите, где его ожидает молекула рецептора. При взаимодействии медиатора с рецептором возникает сигнал, активирующий или ингибирующий постсинап-тическую клетку. После этого медиатор разрушается ферментами. Энергию для биохимического процесса высвобождения медиатора доставляет окисление глюкозы в митохондриях. Синапс, подобный изображенному здесь, имеет около 0,2 мкм в диаметре.
Когда в начале 60-х годов такой метод впервые применили для изучения ткани мозга, выяснилось, что эта ткань наряду со всеми обычными субклеточными фракциями - ядерной, митохондриальной и т. д. - содержит еще и частицы совсем иного типа, которые можно получить в изолированном виде. Нервные клетки контактируют друг с другом в особых участках, где происходит передача информации от одной клетки к другой. Эти участки называются синапсами (рис. 3.4). Гомогенизация мозга приводит к отделению синапсов от клеток; при этом окружавшая каждый синапс мембрана замыкается в обособленный пузырек. В результате образуются искусственно созданные «синаптические частицы» (синаптосомы), которые можно отделять центрифугированием и изучать в очищенном виде.
Это методическое достижение, необычайно расширившее возможности биохимического исследования синапсов, явилось следствием открытия, сделанного почти одновременно двумя нейрохимиками: Виктором Уиттейкером из Кембриджа и Эдуарде де Робертисом из Буэнос-Айреса. Оно сразу подсказало, как можно обойтись без микрометодов Хидена. Нужно было только научиться так «мягко» разрушать ткань мозга, что клетки разделялись бы, но оставались целыми. Тогда я мог бы подобрать такой режим центрифугирования, при котором вместо фракционирования субклеточных частиц происходило бы отделение нейронов от глии.
После нескольких месяцев проб и ошибок я уже имел работающий метод, напоминавший процедуру, которую в детстве на моих глазах часто проделывали мать и бабушка: приготовление творога из свернувшегося молока путем его процеживания через кусок муслина. Я помещал измельченную мозговую ткань в муслиновый мешочек, погружал в раствор с одним из Сахаров и слегка поглаживал поверхность мешочка стеклянной палочкой. При столь слабом давлении нейроны и глия переходили в суспендировапное состояние. Пробуя разные сочетания градиентов плотности и скоростей центрифугирования, я в конце концов выделил две фракции, обогащенные клетками того или другого типа. Я смог получать достаточные количества клеток, чтобы, не прибегая к микрометодам, можно было с помощью стандартных биохимических процедур выяснять, каким образом клетки используют кислород, какие в них содержатся ферменты и каков их белковый состав. Опубликованные мною результаты [4] были встречены с одобрением, и скептицизм Чейна поубавился до такой степени, что я получил указание подготовиться к демонстрации моей методики при открытии его нового большого отдела в присутствии королевы. Мы пользовались этим методом на протяжении следующего десятилетия, пока его не сменили более совершенные процедуры.
Теперь, когда наконец мои исследования получили функциональную направленность и можно было изучать биохимические особенности нейронов в сравнении с клетками другого типа (глиальными), я чувствовал в себе довольно сил, чтобы идти дальше. Меня совершенно завораживали выводы Хидена о биохимических изменениях, связанных с памятью. И не только меня. Неожиданно началась целая лавина новых исследований, публиковались поразительные данные о роли РНК и белка в механизмах памяти. Я написал несколько научно-популярных статей об этих работах, но больше всего мне хотелось самому участвовать в них, а я не знал, как к этому приступить. Конечно, Чейн никогда не согласится, что память - подходящий объект биохимических исследований. К тому же я ведь не был психологом и не имел подготовки в области поведения животных. Я подходил к цели боком, словно краб, и при этом почти тайком.
Память, рассуждал я, в конце концов не что иное, как особое проявление пластичности нервной системы, ее способности отвечать на воздействия окружающей среды с учетом прошлого опыта. Нельзя ли найти какую-то новую экспериментальную систему для изучения такой пластичности? Прежде чем взяться за дело, я несколько месяцев думал, что бы могло послужить подходящей системой. Крысята-сосунки, подобно детенышам многих других позвоночных, рождаются относительно неразвитыми: голыми, слепыми и малоподвижными. Глаза у них обычно открываются примерно к 14-му дню жизни. В течение этих двух недель мозг у крысят быстро развивается, и к тому моменту, когда они становятся зрячими, в нем уже имеются почти все нервные и глиальные клетки, а между нейронами образовались мириады синаптических связей. Напротив, у морских свинок детеныши появляются на свет полностью покрытыми шерстью и с открытыми глазами; они готовы бежать за матерью, когда она отправляется на поиски корма. Различие между этими двумя биологическими типами приобрело для меня особое значение, когда через несколько лет я начал работать с цыплятами.
Но пока мое внимание было сосредоточено на ранних стадиях развития нейронов и синапсов у крысят. Я решил, что первое знакомство со светом должно быть для них важным событием, дающим новый опыт и приводящим, вероятно, к глубоким изменениям в центральных нейронах. Чтобы контролировать ход событий, я держал беременных самок в полной темноте. В этих условиях они рождали и выкармливали детенышей, и только через семь недель я впервые выпускал теперь уже взрослых молодых крыс на свет. Насколько можно было судить, полная темнота в период роста не сказывалась на общем состоянии крысят: они прибавляли в весе и развивались точно так же, как при нормальном чередовании дня и ночи. Следует, разумеется, помнить, что в обычных условиях крысы ночные животные. Днем они в основном спят и только ночью выходят на поиски корма и для взаимного общения. Поэтому зрение для них не самое важное чувство, во всяком случае значительно менее важное чем, например, обоняние.
И все-таки первое световое воздействие вызывало глубокие биохимические изменения. Они, в частности, выражались в резком усилении биосинтеза белков в нейронах зрительной области мозга, хотя в других отделах, например в моторных, аналогичных изменений не было. Я стал сотрудничать с нейроанатомом Брайеном Крэггом, который тоже работал в Лондоне, в Университетском колледже. Он согласился провести сравнительное электронно-микроскопическое исследование структуры зрительной зоны мозга (зрительной коры) у крыс, выросших в темноте и при обычном световом режиме. Подсчитав синапсы в зрительной коре, Крэгг обнаружил небольшое, но статистически достоверное увеличение их числа как раз в тот период, когда я отмечал усиление белкового синтеза. Приобретение нового опыта явно сопровождалось как биохимическими, так и структурными изменениями в зрительной области мозга. Биохимические, анатомические и функциональные сдвиги, видимо, шли параллельно. На основании полученных результатов мы подготовили статью для ведущего научного журнала Nature («Природа»), и я представил ее Чейну, чтобы получить одобрение на публикацию. Он был категорически против. Он вообще не жаловал анатомию, а к данным Крэгга отнесся особенно неодобрительно; кроме того, мы не спросили его согласия на проведение экспериментов. Все наши доводы никак не могли убедить его. Поэтому Крэгг и я поделили результаты и одновременно опубликовали две статьи [5], в одной из которых излагались анатомические наблюдения (за подписью Крэгга), а в другой - мои биохимические данные. Однако смеяться последним пришлось не мне: в последующие годы на анатомическую работу ссылались гораздо чаще, чем на мою биохимическую.
Вскоре после появления наших статей в Nature в 1967 году в Лондоне прошло заседание Королевского общества, на котором я доложил полученные Крэггом и мною данные. Когда оно окончилось, ко мне подошел этолог Пэт Бейтсон, сотрудник станции по изучению поведения животных в Мэдингли (Кембридж). (Сейчас, после работы директором этой станции, Пэт является ректором Королевского колледжа.) В то время он занимался проблемой импринтинга у кур. Все, что я тогда знал об импринтинге, было почерпнуто из книги Конрада Лоренца «Кольцо царя Соломона», где было описано, как гусята, вылупившиеся из яиц и прежде всего увидевшие его резиновые сапоги, с тех пор всегда следовали за ним словно за гусыней. (Тогда мне были неизвестны менее привлекательные стороны личности Лоренца, его сотрудничество с нацистскими партиями Германии и Австрии и энтузиазм по поводу генетического детерминизма и расовой биологии [6].) Что бы ни представлял собой импринтинг, было очевидно, что это одна из форм научения, а куры могли бы стать идеальным объектом для изучения биохимической основы этого феномена.
Пэт сказал мне, что он и его коллега, анатом Габриел Хорн, очень интересуются клеточными и биохимическими механизмами импринтинга у кур, но не могут найти в Кембридже биохимика, который захотел бы сотрудничать с ними. Не соглашусь ли я? Спустя несколько дней я приехал в Кембридж, чтобы посмотреть, как Пэт осуществляет процедуру импринтинга на своих цыплятах, и перекусить с ним и Габриелем сэндвичами; в последующие семь лет это превратилось в традиционные встречи за ленчем в Королевском колледже, во время которых мы планировали эксперименты на цыплятах и обсуждали все более интригующие результаты этих исследований.
Согласно общему плану работы, Пэт обучал цыплят, готовил и кодировал пробы тканей и отправлял их ко мне в Имперский колледж для биохимического анализа, не указывая, каким воздействиям подвергался тот или иной цыпленок. Эксперименты с самого начала шли успешно. Они тщательно планировались, и сотрудничество Пэта (специалиста по поведению), Габриела (анатома и физиолога) и автора этой книги (биохимика) в высокой степени оправдало себя. Мы пришли к выводу, что символизируем будущее, когда в результате общих усилий представителей разных дисциплин, изучающих мозг и поведение, нейробиология станет интегрированной наукой. Я был уверен, что найду способ договориться с Чейном или обойти ожидавшиеся помехи с его стороны.
Оказалось, что беспокойство было напрасным. Через несколько месяцев после публикации наших совместных статей в Nature [7] я был назначен профессором биохимии во вновь организованном Открытом университете. Мне было чуть-чуть за тридцать, и я готовился всецело посвятить себя исследованию памяти.
Мы принимаем наш технологизированный мир и использование в нем памяти как что-то само собой разумеющееся. Мы оставляем друзьям послания на автоответчиках или в компьютерах, справляемся по памятным книжкам относительно еще не занятых дней и посылаем записки коллегам, организуя обед, посещение театра или собрание; наконец, отмечаем, что у нас есть в холодильнике и что необходимо купить. Все это акты индивидуальной памяти, но акты, в которых мы прибегаем к средствам, лежащим вне нас, для того чтобы дополнить или заменить внутреннюю систему памяти, связанную с мозгом. Так было не всегда. Наши воспоминания индивидуальны, но они формируются в процессе коллективной, общественной жизни людей, которая влияет и на сами механизмы мозговой деятельности. У каждого из нас и у общества в целом разнообразные технические средства — от таких древних, как письмо, до новейших электронных устройств — трансформируют восприятие и способы использования памяти. Чтобы понять работу памяти, необходимо понять природу и динамику процесса этой трансформации.
Большая часть истории человечества протекала до появления современных технологий, даже до появления письменности. В первобытных сообществах память о жизни отдельных людей, истории семей и племен передавалась в устной форме. То, что не удерживалось в индивидуальной памяти или не передавалось в процессе устного общения, навсегда забывалось. Воспоминания людей, внутренние следы их прошлого опыта должны были быть самыми хрупкими сокровищами. В таких бесписьменных культурах память подлежала постоянному упражнению, а воспоминания — сохранению и обновлению. Особые люди — старейшины, барды — становились хранителями общественной культуры, способными пересказывать эпические повествования, в которых запечатлевается история любого общества. При этом каждый пересказ в те времена становился уникальным — это бьы неповторимый продукт сиюминутного взаимодействия между рассказчиком, его способностью помнить прошлые пересказы и конкретной аудиторией. Уолтер Онг описывает, как был удивлен бард из современного Заира, когда его попросили рассказать все истории о местном герое Мвиндо; никому раньше не приходилось передавать их все подряд. Когда же слушатели настояли на своем, он в конце концов пересказал их, частью прозой, частью стихами, причем иногда в повествование вступал хор. На все это потребовалось двенадцать дней изнурительной работы, причем три человека все время вели запись. Но в записанном рассказе Мвиндо выглядел совсем иначе. Его образ уже не помогал воссоздавать непрерывно хранившуюся в памяти атмосферу прошлых времен. Теперь этот образ был зафиксирован в линейной (последовательной) памяти, как того требует современная культура [I].
Хотя еще жива концепция памяти в этом глубоком, коллективном смысле, новые технические средства меняют природу запоминания. Магнитофоны и видеомагнитофоны, а также письменная регистрация событий не только усиливают память, но и замораживают ее, придают ей фиксированный, линейный характер; они закрепляют ее и в то же время не дают ей развиваться и трансформироваться во времени, подобно тому как жесткий наружный скелет насекомых или ракообразных одновременно защищает и стесняет его обладателя. Вспомним, например, как в 1990 году лидеры мирового еврейского движения собрались в Ваннзе — вилле на берегу озера, где Гитлер, Гейдрих и прочие почти пятьдесят лет назад подготовили план «окончательного решения еврейской проблемы». Как писал тогда лауреат Нобелевской премии мира Элие Визель, нужно было продемонстрировать, что «память сильнее чем ее враги..., о которых многие немцы и немки в прошлом старались не говорить и не помнить». Это был акт групповой памяти одной стороны, противостоящий акту общественной амнезии у другой; но этот акт памяти не ограничивался устными выступлениями: он был подкреплен письменными текстами, звуковыми записями и прежде всего видимыми образами на фотографиях и кинопленке — потрясающими до ужаса изображениями, которые остаются теперь в умах и памяти даже тех, кто был далеко от запечатленных событий. Контраст со старыми, основанными на устной традиции культурами не мог бы быть более явным.
Разумеется, многие современные национальные и этнические конфликты порождены аналогичными, многократно усиленными коллективными воспоминаниями и коллективной амнезией. В детстве мне постоянно напоминали, чтобы я никогда не забывал о «последующем годе в Иерусалиме». В 1982 году после зверств в лагерях палестинских беженцев в Сабре и Шатилле я посетил Ливан и встречался со многими молодыми палестинцами, которые «помнили Яффу» (и даже Иерусалим), хотя, конечно, никогда не были там. Они помнили отнятые у их семей дома в той земле, что теперь называлась Израилем, помнили по меньшей мере так же хорошо и с таким же глубоким чувством, как те, кого собрал в Ваннзе^акт коллективной памяти. Задумайтесь, чем стали Косово для сербов и албанцев или храм/мечеть в Алиодхе для индуистов и мусульман в результате коллективного восприятия изображений, сохраненных с помощью технических средств.
Психоаналитик Юнг отчасти основывал свою теорию общественного сознания на посылке, что коллективные воспоминания имеют расовую подоплеку и глубоко запечатлены в нашем биологическом и культурном наследии. Разумеется, мои рассуждения не имеют с этим ничего общего. Я говорю о механизмах сохранения и передачи, обобществления и коллективизации воспоминаний. В Советском Союзе было создано общество «Мемориал», поставившее своей задачей сохранить память о жертвах сталинизма, однако и крайне правая политическая организация русских националистов и антисемитов назвала себя «Памятью». Я попытаюсь показать, что выяснение природы забывания, индивидуальной и общественной амнезии не менее важно для постижения социальных и биологических функций памяти, чем знание механизмов запоминания.
В этой главе речь пойдет о коллективных и индивидуальных воспоминаниях и о меняющихся технических средствах, которые обогащают или ограничивают их и в то же время служат аналогиями при попытках объяснить память. В главе 5 будет показано, как технический прогресс, который в нашем компьютеризованном индустриальном обществе связывает и регламентирует подвижную память устной культуры, отражается в индивидуальном развитии человека.
Древнее искусство запоминания
Древние философы относились к достоинствам письменной культуры с явным скепсисом. Платон приписывает Сократу утверждение об античеловеческой природе письма: оно выносит за пределы нашего духа то, что на самом деле может существовать только в нем самом. Как отмечает Онг, письмо материализует психические процессы, превращает их в произведенный продукт. Записи разрушают память; те, кто пользуется ими (как говорил, по свидетельству Платона, Сократ), становятся забывчивыми, полагаются на внешние источники, когда им не хватает внутренних ресурсов. Письмо ослабляет ум.
Память следует упражнять, чтобы она была такой, как у того заирского барда. Система приемов, улучшающих использование памяти, — так называемая мнемотехника — по-видимому, не один раз независимо возникала и разрабатывалась во многих культурах. В западной культуре четко прослеживается история этой мнемотехнической традиции, которая восходит ко временам Древней Греции, хотя в письменных источниках зафиксирована не греками, а римлянами: первое упоминание о ней мы находим в трактате *De oratore» («Об ораторе») — знаменитом произведении римского государственного деятеля и писателя Цицерона о риторике, т. е. искусстве аргументации и полемики. В этом трактате Цицерон приписывает открытие правил запоминания поэту Симониду, творческая жизнь которого, по-видимому, протекала в период где-то около 477 года до н. э.
Рассказ о Симониде вновь и вновь встречается в древних римских и средневековых текстах, а также в эпоху Возрождения. Вкратце его содержание сводится к описанию празднества, устроенного знатным фессалийцем Скопасом, где Симонид должен был исполнить лирическую поэму в честь хозяина. Но Симонид включил в поэму и хвалу божественным братьям-близнецам Кастору и Поллуксу. Тогда Скопас сказал Симониду, что уплатит ему только половину обещанной суммы, и добавил, что остальное ему следует просить у богов. Вскоре после этого Симониду сообщили, что на улице его дожидаются двое юношей. Когда поэт вышел, крыша обеденного зала рухнула и погребла под развалинами Скопаса и его гостей, так изуродовав их тела, что родственники не могли узнать своих близких, чтобы подобающим образом похоронить их. Молодые люди, вызвавшие Симонида, были сами Кастор и Поллукс; они вознаградили поэта, спасши ему жизнь, а Скопас понес достойное наказание за свою низость. Но главное для нас в этой притче то, что Симонид запомнил, в каком порядке люди располагаются за столом, и это позволило ему распознать всех погибших. Этот случай, по словам Цицерона, подсказал Симониду принципы искусства запоминания, изобретателем которых он считается, поскольку впервые обратил внимание на то, что полезно запоминать размещение различных объектов. Главное условие хорошей памяти — это способность упорядочение располагать в мыслях все то, что требуется запомнить. Цицерон пишет [2]:
Это навело его [Симонида] на мысль, что тем, кто развивает свои способности в этом направлении, следует держать в уме картину каких-нибудь мест и по этим местам располагать мысленные образы запоминаемых предметов. В результате порядок мест сохранит порядок предметов, а образы предметов будут означать самые предметы, и мы будем использовать места как восковые дощечки, а образы — как надписи.
Такие правила предназначены для соотнесения набора объектов, не имеющих видимой логической связи, с другим набором, структура которого логически ясна или хотя бы легко запоминается благодаря каким-то характерным признакам. В таких мнемотехнических системах воспоминания можно сохранять путем «привязки» их к элементам хорошо знакомого окружения — обычно дома с его комнатами или общественного места с заметными зданиями и монументами: подлежащие запоминанию предметы мысленно размещаются вдоль цепочки таких элементов. После этого их легко вспоминать, например, во время речи или декламации, если говорящий будет «внутренним зрением» следовать по ходу этой цепочки, переходя от одного элемента к другому. В древних текстах этот метод запоминания называют «искусственной» памятью в противовес врожденной, или природной, нетренированной памяти; изобретение новых систем памяти, по-видимому, представлялось древним столь же заманчивым делом, как и нынешним энтузиастам создания компьютеров.
Другой латинский текст неизвестного автора под заглавием «Ad Herennium» определяет память как «прочное сохранение, усвоение умом предметов, слов и их взаимного расположения». В этом тексте речь идет о том, как выбирать образы, которые, помимо прочего, могут давать представление об организации запоминаемых объектов, которая рассматривается как ключевой фактор эффективной памяти:
Должно создавать мысленные образы такого рода, какие дольше всего могут удерживаться памятью; этого можно достигнуть, установив наиболее разительные подобия..., придав им необычайную красоту или исключительное безобразие, например облачив некоторые из них в короны и пурпурные мантии, чтобы сделать сходство еще более заметным, или исказив другие, представив их запятнанными кровью, запачканными грязью или измазанными красной краской... это тоже поможет гораздо легче запомнить их [З].
Эти методы уже не были плодом индивидуальных особенностей или приемов такого великого оратора, как Цицерон, который, по-видимому, мог целыми днями говорить в Сенате, не прибегая к записям. Подобные описания, если судить по известной книге Франсес Йейтс «Искусство памяти» [4], встречаются и в других классических текстах. Как полагают, некоторые римские полководцы пользовались этим способом, чтобы запоминать имена солдат; говорят, что Публий Сципион знал в лицо и по именам всех воинов своей армии, а их было 35 тысяч. Такая мнемотехника была предшественницей традиции, пронесенной через средние века и эпоху Возрождения и сохранившейся до нашего времени. Правда, в средневековье она в основном свелась к грубым приемам запоминания чисел и букв. Считалось, что достаточно запомнить легко воспринимаемую глазом последовательность рисунков или расположенных по кругу надписей, чтобы при случае вспомнить порядок молитв или перечень пороков и добродетелей. По сходному принципу построены разнообразные варианты современных азбук в картинках, которые составлены из пиктограмм типа «А — арбуз, Б — барабан» и т. д.
Но постепенно, особенно с XIV века, мнемотехника стала набирать силу. Место «записи» запоминаемых образов стали уподоблять театру — особому «театру памяти» с символическими скульптурами, подобными статуям древнеримского форума, у основания которых можно было располагать объекты, подлежащие запоминанию. С начала эпохи Возрождения эти воображаемые театры становились сложнее, в них появились проходы, ярусы кресел, классические статуи, олицетворявшие пороки, добродетели и другие ключевые понятия. Но если раньше демонстраторы искусства мнемотехники были как бы зрителями такого театра, смотревшими на сцену как на собрание тщательно отобранных образов-напоминаний, то в эпоху Возрождения мнемотехник смотрел со сцены, подобно актеру, и ряды зрителей в зале служили для него последовательностью знаков, облегчавших работу памяти.
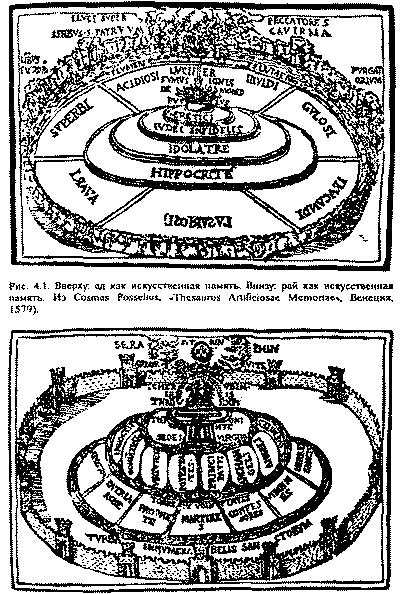
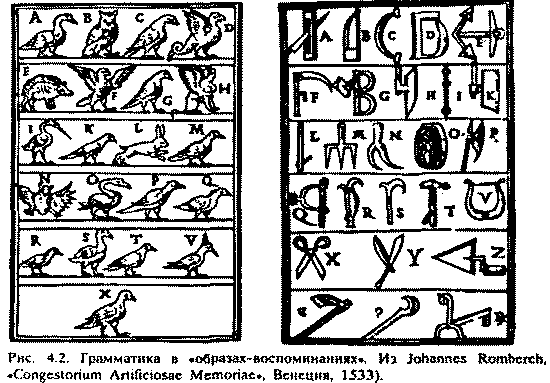
Театры стали даже средством религиозной пропаганды. В 1596 году иезуит-миссионер Матео Риччи предложил идею «дворца памяти» китайцам, которых он рассчитывал обратить в свою веру. По его словам, размеры дворца должны были зависеть от того, как много обращаемые хотели запомнить; в самом смелом варианте сооружение состояло бы из нескольких сотен зданий разнообразной формы и величины — чем больше, тем лучше. Правда, для этой же цели подошли бы и более скромные «дворцы», храмы, помещения государственных учреждений, дома встреч купечества и даже простые беседки. Риччи подобрал образы, знакомые, как он думал, его китайским друзьям, чтобы разместить их в воображаемых комнатах и павильонах воображаемого дворца, которые должны были стать местами памяти для сохранения идей и понятий. Не могу, однако, не заметить, что не вижу прямой связи между этой столь изощренной системой и христианской теологией [5].
В руках современника Галилея, еще более опасного еретика Джордано Бруно, который в отличие от него не пожелал отречься и был сожжен инквизицией, театры памяти стали важной принадлежностью оккультной, герметической философии. Бруно использовал их как средство классификации и, следовательно, постижения загадочной сущности Вселенной. Память давала власть над природой. Театры памяти служили моделями небес и преисподней (систематизированное описание кругов ада и рая в дантовой «Божественной комедии», как полагают, имеет своим источником именно такую мнемотехническую схему). Сниженный вариант мировоззрения и философии Джордано Бруно существует и поныне. Взгляните на рекламные страницы воскресной газеты, и вы найдете объявления такого рода: «У вас плохая память? Известный издатель научит, как улучшить ее» или «Вы удивитесь, но древние египтяне давно знали...». При ближайшем рассмотрении многие из таких объявлений окажутся продуктом творчества некой тайной секты, именующей себя Розенкрейцерами, может быть и не столь древней, как они пытаются представить, но, несомненно, уже существовавшей во времена Джордано Бруно и вобравшей в себя многое из его учения. Попробуйте сами их рецепты тренировки памяти, и вы получите представление о театре памяти.
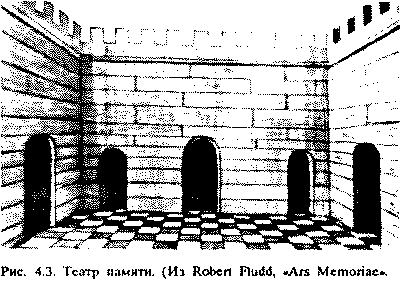
Ко времени Ренессанса театр памяти превратился из символического инструмента, предмета умственной организации, в реальную конструкцию. В XVI веке, к неудовольствию таких философов-рационалистов, как Эразм Роттердамский, венецианец Джулио Камилло построил настоящий деревянный театр, заполненный скульптурами, театр, который он предлагал королям и властителям как чудесное, почти магическое средство для упражнения памяти. Франсес Йейтс высказывает даже смелое предположение, что шекспировский театр «Глобус» был устроен по принципу театра памяти. Почему, спрашивает она (стр. 173—174), такой театр выглядит столь таинственно связанным со многими сторонами Возрождения? «Я думаю, потому, что он воплощает новый ренессансный строй души, изменения в памяти, дающие толчок внешним изменениям. Человеку средневековья было позволено пользоваться его неразвитым воображением, чтобы через систему вещественных подобий облегчать запоминание и вспоминание; это была уступка его слабости. Герметический человек Возрождения верил, что наделен божественной силой, у него бьыа магическая память, с помощью которой он постигал мир... Магия божественных пропорций переливалась из его мировой памяти в волшебные миры поэзии и ораторского искусства, в безупречные пропорции его архитектуры и художественных произведений. Что-то произошло в душе, освободились новые силы...».
Технические аналогии
О каком бы театре ни шла речь, реальном или воображаемом, мы уже далеко отошли от первоначального намерения Цицерона и давно преодолели заблуждение Платона о вреде письменного слова для ума: появляется технологический императив использования механизмов памяти. Но для этого нужны определенные усилия, чтобы понять и объяснить эти механизмы, и именно здесь особое значение приобретает своеобразное двойственное отношение техники к биологии вообще и к биологии разума в частности.
В науке объяснение осуществляется через аналогию. Мы пытаемся понять неизвестное, сравнивая его с тем, что уже знаем или по крайней мере думаем, что знаем. Возьмем одно из самых фундаментальных подразделений известного нам мира - разделение на одушевленное и неодушевленное. В науке первое стало предметом биологии, а второе - физики. В дотехнологическую эру в западных обществах и во многих других культурнь1х традициях конечное объяснение давалось попеременно то биологией, то физикой. Непредсказуемые перемены ветра и дождя, равно как и регулярность поведения рек, моря и земли, звезд, солнца и луны объяснялись анимистически, как отражение желаний и прихотей местных и всеобщих богов, которые руководствуются теми же побуждениями, что и люди. С другой стороны, проявления всего одушевленного, т. е. биологические феномены, метафорически объяснялись на языке физики и все чаще - техники. Из-за сложности биологических систем их обычно уподобляют самым сложным и совершенным формам современной технологии. У каждого периода, каждой культуры есть такая форма или, как выразился Дэвид Болтер [б], определяющая технология. В самом деле, мы делим предысторию человечества на этапы именно по таким определяющим технологиям: каменный век, бронзовый век, железный век1.
В древних культурах одной из самых тонких технологий было гончарное дело, позволявшее с помощью глины и гончарного круга, глазури и огня создавать форму и рисунок. Не удивительно, что в этих культурах (где мы снова и снова встречаем в сказаниях Старого и Нового Света миф о сотворении) божество с гончарным кругом лепит людей, а потом вдыхает в них жизнь. В других мифах фигурируют прядение и ткачество; например, парки держат в руках нити жизни. Не избежала такой метафоризации и память. Для древних память с запечатлеваемыми в ней образами была тем же самым, что «восковые таблички с написанными на них буквами», как говорит Цицерон в трактате «Об ораторе». Отзвук этой метафоры слышен и в последующие века. Она лежит в основе философских споров XVIII века и научно-идеологических дискуссий XIX и XX веков о том, рождаются ли люди с уже определившимися склонностями или же их душа - как tabula rasa, чистая грифельная доска, на которую лишь опыт впервые наносит свои надписи.
1) И не только предысторию. В нашей с Хилари Роуз книге о развитии науки как общественного института мы писали о войне 1914-1918 годов как о войне химиков, а о периоде 1939-1945 годов как о войне физиков. А теперь наступает уже век компьютерных и даже биологических войн [7].
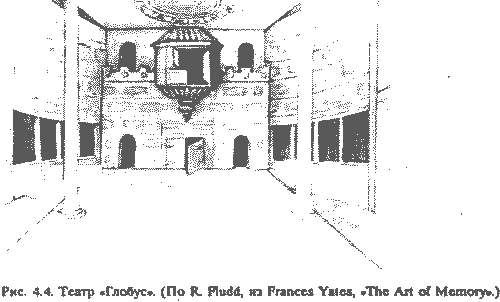
В наше время слово «память» можно услышать в бесчисленных научных дебатах. Этот термин используют в математике, физике и химии, в молекулярной биологии, генетике, иммунологии и теории эволюции, не говоря уже о работах по искусственному интеллекту, однако здесь имеется в виду совсем не та память, которую изучают нейробиологи, физиологи и даже романисты и которая интересует меня. Почему так многозначно слово «память»? Имеем ли мы дело с простой игрой слов, т. е. использованием слов, взятых из одного контекста, в другом контексте? Или же тот факт, что термин используется в столь разных областях науки, проливает свет на возможные механизмы и процессы, с которыми связана память?
Могут ли разнообразные аналогии что-нибудь дать для познания природы какого-либо явления, даже высветить неожиданное сходство, казалось бы, совершенно разных явлений, или это всего лишь фигуры речи? В каком смысле память можно уподоблять восковым дощечкам или... компьютерам?
В науке следует различать три типа аналогий, или метафор [9]. Первый тип - поэтические метафоры, как, например, описание электронов, данное Резерфордом, который сравнил электроны, движущиеся по орбитам вокруг атомного ядра, с планетами, обращающимися вокруг Солнца. Проводя такую аналогию, ученый, разумеется, был далек от мысли уподоблять ядро и электроны Солнцу и планетам или считать связывающие их силы гравитационными. Здесь аналогия нужна лишь для того, чтобы создать наглядный зрительный образ. Очевидно, что к этому типу относится и древняя метафора гончарного круга.
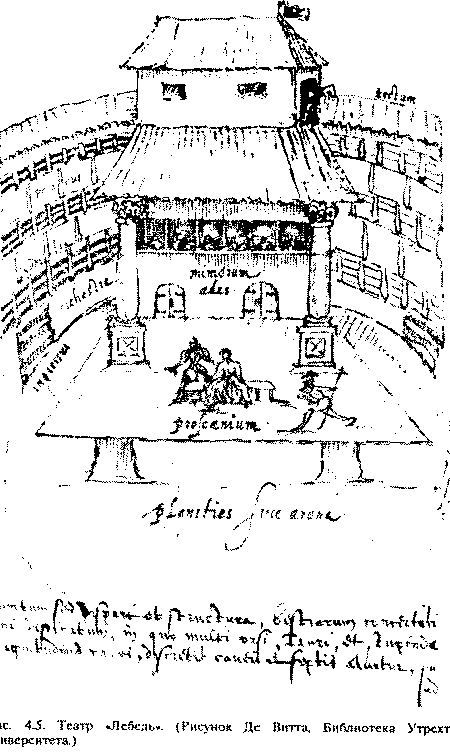
Второй тип аналогий - эвокативный; здесь происходит перенос какого-то принципа из одной области в другую. Например, вплоть до средневековья и революционизирующих открытий Ньютона полагали, что если что-нибудь движется, то его должно тянуть или толкать что-то другое. Поэтому, подыскивая объяснение движению Солнца вокруг Земли, его сравнивали с влекомой конями огненной колесницей.
Наконец, аналогия может служить для утверждения структурного или организационного тождества. Например, когда в XVII веке Уильям Гарвей открыл кровообращение и сравнил сердце с насосом, эта метафора имела совершенно точное значение, что отличало ее от двух предыдущих типов. Как часть системы кровообращения, сердце и в самом деле действует как насос, и по своему устройству - с его клапанами и фазами наполнения и опорожнения - оно сходно по крайней мере с теми типами механических насосов, которые существовали во времена Гарвея. Сравнение сердца с насосом позволяет создавать математические модели его работы и точно описывать многие свойства этого органа.
К какому же типу аналогий можно отнести сравнение памяти с восковыми дощечками или компьютерами - к поэтическому, эвокативному или структурному? Или оно не относится ни к одному из них и только запутывает дело?
Декартовское раздвоение
С рождением современной науки в Европе XVII века была нарушена симметрия между уподоблением физических сил жизненным, а биологических явлений - техническим моделям. Важно понять, что это прежде всего феномен западного мира, и объясняется он тем, что формирование науки было рождением двойни, а не одного младенца. Современная наука появилась и развивалась до зрелого состояния вместе с особой формой буржуазной, капиталистической организации общества, поэтому и наука, и общество имеют во многом общую философско-идеологическую базу, определявшую понимание и подходы к природе и общественным отношениям [7, 9]. Другие культуры со свойственными им научными традициями долго сопротивлялись разрушению симметрии, которое уже произошло в западной науке. Конечно, это прежде всего относится к Китаю [10], где никогда не было столь резкого деления природы на живую и неживую, так же как и других форм дуализма, обосновавшегося в западной культурной традиции.
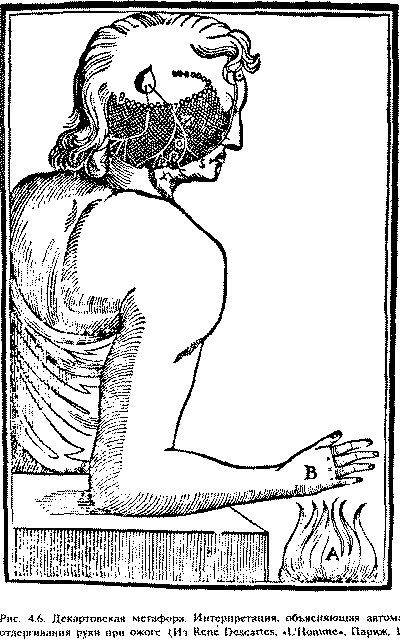
Однако развивавшаяся в Европе наука не выходила за рамки, определенные для нее Галилеем, Ньютоном и, конечно, Декартом, который больше, чем кто-либо другой, дебиологизировал физический мир, превратив его в простой «механизм». Для этих ученых «определяющей технологией» были часы и ассоциировавшиеся с ними системы шестеренок и гидравлических передач, которые, работая вместе, обеспечивали невообразимую раньше точность движения - его можно было описать математическими уравнениями. Часовые механизмы преобразили время, установили границы прежде считавшейся неделимой вселенной, расчленили ее на части, каждую из которых можно было оценивать и изучать по отдельности1. Гидравлика была источником силы и управляла движением в этой механической вселенной. Новая физика не просто по-новому объясняла вселенную, но давала новую технику, формировала новые системы производства и новые производственные отношения. Европа вступила на путь индустриализации и колониальных завоеваний (курс, который теперь она уже оставила), а математическая физика стала определяющей моделью научного объяснения, с которой сопоставляются все другие модели. Если само движение планет. Луны и Солнца можно описать с помощью несложной математики, как будто оно неотвратимо вытекает из уравнений, почему нельзя так же просто поступить с биологией?
1 С появлением цифровых (в отличив от аналоговых) часов время стали делить и рассчитывать еще точнее, все дальше отходя от мирового времени, которое определялось циклической сменой дня и ночи, месяцев, сезонов и лет. В современном мире ношение аналоговых часов вместо цифровых выливается в слабый акт сопротивления, на что впервые указал Морис Базен, радикальный физик и один из лучших популяризаторов науки.
Конечно, могло быть иначе. Биология как организованная наука могла сложиться раньше физики, а менее механистические, более телеологичные (телеономические) функциональные и эволюционистские приемы объяснения одушевленного мира, предлагаемые биологией, могли стать моделью, которую стремились бы найти физики. В таком случае редукционизм, настаивающий на том, что в конечном итоге мир можно объяснить на основе атомных и квантовых свойств и с помощью нескольких универсальных уравнений, был бы не более чем нелепым извращением истинно научного толкования [II], а биологи уже не страдали бы от зависти к физикам и не стыдились своего предмета как «мягкой», а не «жесткой» науки. Однако этому не суждено было случиться. Возобладали технологические, а не биологические аналогии, и в руках Декарта сами живые организмы превратились в подобие часов, устройства, где внутренние процессы поддерживаются сложными гидравлическими системами труб и клапанов.
Как известно, Декарт сделал кардинальное исключение для человека. Хотя повседневная работа человеческого организма была, по его представлениям, таким же механическим процессом, как и у животных, людей он признавал мыслящими существами и, что еще важнее, они имели душу, тогда как животные, по Декарту, способны лишь строго определенным образом реагировать на окружающую среду. Мысль и душа - бестелесные сущности, но они взаимодействуют с механизмами тела через специальный орган - шишковидную железу, расположенную в глубине мозга. Декарт выбрал эту железу по двум причинам. Во-первых, в отличие от всех других, парных, структур мозга, который и в целом состоит из двух более или менее симметричных полушарий, эта железа является непарным органом, она не дублирована. Это позволяет ей объединять все мыслительные процессы. Во-вторых, шишковидная железа имеется только у людей и отсутствует у животных. Разумеется, в обоих случаях Декарт был неправ. В мозгу много других непарных структур, а шишковидная железа есть и у остальных позвоночных. Однако почерпнутая из теории логика аргументации Декарта по-прежнему обращена к тем, кто вместе с ним хотел бы отстоять уникальность человека: «Немыслимо по моральным соображениям, чтобы какая-то машина была настолько универсальной, что могла бы действовать во всех случаях жизни так, как нас заставляет действовать наш разум» [12].
Именно отсюда берет начало провозглашенный Декартом разрыв между душой и телом - дуализм, который на три столетия затуманил научное и философское мышление запада навязчивым и необоснованным беспокойством относительно «проблемы сознания и мозга».
Однако сейчас декартовские сравнения с часовым механизмом и гидравлическими системами интересуют меня больше, чем картезианский дуализм. Современное движение в защиту прав животных во многом использовало в своих интересах эту сторону мышления Декарта, которая привела его к утверждению, что крики боли подопытных животных - это не что иное, как скрип несмазанных машин. Наиболее серьезно картезианские представления были восприняты французской физиологической школой в XIX веке (особенно Клодом Бернаром) с ее безразличным отношением к страданиям животных [13]. Современные нарекания на Декарта, разумеется, справедливы, но я бы добавил, что его метафоры вредны не только своей трактовкой природы животных, но не в меньшей мере - членением и уничижением цельного человеческого естества. Может быть, Декарт и сохранил для католицизма душу и разум, облачив их в лучший воскресный наряд и позволив им манипулировать рукоятками механизма через шишковидную железу, но на остальные шесть дней недели он оставил механического человека дебиологизированным и десакрализованным, как простую bete machine, совершенно не защищенным в условиях промышленной революции XVIII и XIX веков. Требовалось лишь время, чтобы технология бросила вызов декартовым «моральным соображениям».
Этой мрачной философии и идеологической ущербности противостоят, однако, крупные завоевания картезианства. Вывод о связи психических функций с мозгом, даже в механистически-метафорической форме, был отнюдь не тривиален. Мысль о мозге как о местонахождении разума и души не есть самоочевидная идея, какой бы естественной она ни казалась нам сейчас. По Аристотелю, эти функции сосредоточены в сердце, по мнению древних евреев - в почках и кишечнике. Представители медицинской традиции Галена показали, что нервы отходят от мозга и что двигательные и сенсорные функции выпадают после повреждения этого органа. Образ мышления, основанный на понятиях гидравлики, сосредоточивал внимание не на жирной, по виду бездеятельной ткани, образующей мозг, а на его заполненных жидкостью центральных участках - желудочках, которые на любовно сделанных рисунках старых анатомов выглядят не менее впечатляющими, чем на набросках Леонардо.
Как следствие, в ранних гидравлических моделях памяти именно желудочки служили хранилищем воспоминаний, оживляемых потоками духа, который в свою очередь управлялся клапаном между передним и задним отделами мозга. В учении Декарта эта исключительно важная задача возлагалась на шишковидную железу:
Когда душа желает что-нибудь вспомнить..., воля заставляет железу отклоняться то в одну, то в другую сторону, направляя дух в разные отделы мозга, пока он, наконец, не натолкнется в одном из них на следы, оставленные предметом, который мы хотим вспомнить. Такие следы существуют просто потому, что поры в мозгу, через которые дух проходил раньше при восприятии этого предмета, теперь более других склонны открываться, когда дух снова направляется к ним. И тогда дух легче выходит в эти поры, вызывая в железе то особое движение, которое указывает душе на тот же предмет, заставляет ее узнать в нем именно то, что она хочет вспомнить [14].
Это остроумное описание содержит в себе зачатки многих современных представлении о механизмах памяти, рассматриваемых в этой книге. Оно показывает также, сколь прямолинейно философы подходят к биологическим проблемам. В связи с этим мне особенно нравится употребление Декартом слова «просто»; если бы так оно и было...
Как следует понимать эти картезианские метафоры памяти? Возможно, Декарт считал свою теорию таким же точным описанием процессов, происходящих в мозгу, каким для Гарвея было сравнение сердца с насосом. Но мне кажется, что мы должны воспринимать эту теорию всего-навсего как поэтическую метафору, как способ осмысления такого сложного феномена, как человек, который рассматривается не как объект sui generis, а как один из типов движущейся материи.
На протяжении XVIII и XIX веков метафоры разума и памяти постепенно менялись. С открытием Гальвани «животного электричества» (лягушка, дергающая лапками, к которым подсоединены металлические провода) нервная система перестала быть водяным лабиринтом и стала электрической сетью. В этой сети мозг сначала служил телеграфной сигнальной системой, а потом (в начале нынешнего столетия) превратился в телефонную станцию. Эта новая аналогия особенно нравилась знаменитому нейрофизиологу Шеррингтону. (Другой незабываемый, но явно поэтический шеррингтоновский образ - это «волшебный станок», плетущий узоры из электричества.) В отличие от гидравлических аналогий сравнение мозга с телеграфной и телефонной системами уже не было просто поэтической метафорой. Например, телеграф, подобно мозгу, преобразует входную информацию в символы (в руках Морзе и его последователей - в особые коды для отдельных букв), которые можно передавать на большие расстояния и после приема расшифровывать. Принцип телефонной связи еще более сходен с принципами работы мозга, так как в этом случае речь переводится в особым образом модулированный поток электронов, направляемый по проводам. В телефонной модели мозга последний перерабатывает входную информацию в выходную, так что, например, сигналы от глаз могут переключаться на путь, ведущий к мышцам ноги, и т. п.
В двадцатых годах нынешнего столетия было установлено, что через мозг и в самом деле непрерывно текут электрические токи, а приложенные к голове электроды регистрируют регулярные всплески и ритмические волны электрической активности, изменяющиеся во время покоя, умственной работы, сна и бодрствования. Это было тотчас воспринято как подтверждение телефонной модели с идеей о центральной станции, соединяющей абонентов, из которых одни набирают номера, а другие отвечают на вызов. Вот, например, как описан очень примитивный вариант такой модели в одной детской энциклопедии того времени:
Представьте, что ваш мозг - это административный отдел крупного предприятия... За большим столом в Главном управлении сидит Генеральный директор - это ваша сознательная личность; на столе телефонные аппараты, связывающие вас со всеми отделами... Представьте теперь, что вы рассеянно бредете по улице и вдруг встречаете своего приятеля Джонни Джонса. Он окликает вас по имени, вы останавливаетесь, приветствуете его, обмениваетесь рукопожатием. Все это как будто очень просто, но давайте посмотрим, что происходит в это время в вашем мозгу. В тот момент, когда Джонни Джонс произносит ваше имя, ваш Заведующий слухом передает звуки его голоса, а Заведующий зрением - фотографическое изображение. «Внимание!» - звучит сигнал в вашем кабинете, и тотчас на стол ложатся оба сообщения. Быстрый как молния мальчик-посыльный - ваша память - подбегает к картотеке и достает карточку. На ней значится, что голос и лицо принадлежат человеку по имени Джонни Джонс, который является вашим другом. Вы сразу же начинаете отдавать распоряжения... [15].
Компьютеры и искусственный интеллект
От восковой дощечки до мальчика-посыльного с его картотекой прошло больше 2000 лет, т. е. скорость прогресса в подборе аналогий была не так уж велика, и такие сравнения трудно было бы назвать даже поэтическими метафорами. Но действительно серьезный вызов утверждению Декарта об ограниченных возможностях неодушевленных систем был брошен определяющей технологией второй половины XX века - компьютерами. Ближайшие предшественники современных ЭВМ, как и многих других технических достижений, появились в результате военных разработок. К последним можно отнести и логические игры кембриджского математика Алана Тьюринга, которые нашли практическое применение при тренировках по декодированию, проводившихся в 1939-1945 годах Британской разведывательной службой в Блетчли-Парке (от которого рукой подать до моей нынешней лаборатории). Позже они были переведены на электронику для удовлетворения различных военных потребностей, например для создания эффективных сервомеханизмов для расчета высоты и направления при стрельбе из зенитных орудий по быстро движущимся целям. Эта задача была решена американским математиком Норбертом Винером, который дал новой науке название кибернетики, под которым она вошла в моду в послевоенные десятилетия. В этот период Винер и его коллега-математик Джон фон Нейман - разумеется, в сотрудничестве с американской (и в меньшей степени с британской) промышленностью - дали обоснование теории и практическому применению новой науки и возникшей на ее базе электронной технологии. Потребности военных, а вместе с тем и стимулы для новых разработок на протяжении последующего полувека не ослабевали и стали особенно бурно нарастать в 80-х годах - времени безудержных трат на создававшуюся под эгидой администрации Рейгана программу «звездных войн», которая требовала беспрецедентного увеличения компьютерной мощи. ЭВМ, работающие подобно мозгу и даже заменяющие его, превратились из темы научной фантастики в объект серьезных военных разработок. Уж очень привлекательной кажется перспектива создания «мыслящих систем», способных заменить или дополнить высококвалифицированных, хорошо оплачиваемых специалистов. Действительно, в наши дни трудно представить себе научную конференцию по вопросам обучения, памяти и их компьютерных моделей, на которой не ощущалось бы военное присутствие США в лице представителей военно-морского флота, военно-воздушных сил или ведомства, известного под зловещим акронимом ОАПНП (Оборонное агентство приоритетных научных проектов).
Качественная новизна компьютерной техники была очевидна с самого начала. Разумеется, и раньше существовали электромеханические счетные машины и подобные им аппараты. Но компьютеры общего назначения представляли собой нечто большее, чем быстродействующие счетные устройства и хранилища информации: они могли сравнивать и преобразовывать информацию, манипулировать ею, что делало возможным создание принципиально новых технологических процессов и инструментов и даже постановку любых мыслимых научных проблем, касающихся познания Вселенной. На протяжении последних двух десятилетий компьютеры постепенно, но во все нарастающем темпе изменяют способы, которыми мы познаем мир и воздействуем на него. Не удивительно, что столь велик идеологический резонанс компьютеризации. Перед создателями компьютерной техники с самого начала во весь рост встала проблема взаимоотношения между компьютером и мозгом. Это нашло отражение даже в их языке. Так, цифровая ЭВМ фон Неймана состояла из центрального процессора, выполнявшего арифметические и логические операции, и блока хранения информации, которые был тут же наречен его конструкторами памятью.
Компьютерная память - это система чипов (силиконовых плат с впечатанными транзисторами), хранящая информацию в форме двоичного кода, где каждая единица информации представлена одним из двух состояний (О, 1). Такая конструкция, разумеется, предполагает, что все хранимое и обрабатываемое в компьютере должно быть сначала переведено в форму, доступную для представления в цифровом двоичном выражении, как некоторое число битов (бинарных единиц) информации. Слово «информация» имеет здесь технический, даже технологический, а не повседневный смысл (об этом речь пойдет позже). Заслуживает внимания и то обстоятельство, что в названии «компьютерная память» неявно подразумевается, что операции, с помощью которых компьютер хранит или обрабатывает бинарные единицы, аналогичны процессам, происходящим в нашей, человеческой памяти.
На первый взгляд это сходство кажется весьма обнадеживающим. Разве эта языковая система не описывает физический, неодушевленный механизм по аналогии с биологической системой? А неудача попыток такого описания - разве не то, о чем я сожалел, говоря о картезианских представлениях XVII века? Увы, нет. В дальнейшем станет понятно, что практический и идеологический потенциал техники превосходит возможности биологии, так что метафора инверсируется. Вместо биологизации компьютера мы сталкиваемся с настойчивыми утверждениями, что человеческая память - это всего лишь менее совершенный вариант компьютерной памяти, и если мы хотим понять, как работает наш мозг, нам следует больше сил отдавать исследованию и конструированию компьютеров.
Это отнюдь не заблуждение отдельных энтузиастов научной фантастики. Такая мысль с самого начала была центральной в программе создателей компьютеров и разделявших их взгляды философов. Сам Тьюринг обосновал ее в 1950 году, незадолго до самоубийства, с помощью одной из своих многочисленных логических игр. Предположим, что вы связаны через телетайп с другим телетайпом, находящимся в соседней комнате. Этот второй телетайп может контролироваться либо оператором, либо машиной. Как определить, кто поддерживает с вами связь: человек или машина? Очевидно, что машина должна быть достаточно умна, чтобы имитировать возможные ошибки человека, а не демонстрировать безупречное выполнение задач, с которыми машины справляются лучше человека (быстроту и точность вычислений). В то же время машина должна не хуже человека делать то, что последний выполняет безукоризненно, а в случае неудачи должна достаточно правдоподобно лгать, чтобы оправдать ее. В этом суть так называемого теста Тьюринга, который верил, что «через 50 лет» можно будет таким образом запрограммировать компьютер, чтобы у него были все шансы выдержать подобное испытание [16].
Для поколений, которые после 1950 года искали пути создания машины, отвечающей условиям Тьюринга, это стало поиском священного Грааля или поисками искусственного интеллекта, как они скромно называли свою работу. Но как решить эту задачу? С самого начала обозначились два совершенно разных подхода, которые можно грубо определить как редукционистский и холистический. Вспоминая то время и имея все преимущества ретроспективного взгляда, один из пионеров и провозвестников холистического подхода описывает события в стиле сказочного повествования:
В один прекрасный день у новой науки кибернетики родились две дочери. Одна дочь была настоящая, она унаследовала черты науки о мозге, черты истинно природные. Другая дочь поддельная, она была плодом начавшегося использования компьютеров. Обе сестры старались построить модели разума, но из разного материала. Настоящая сестра строила модели (названные нервными сетями) из математически идеализированных нейронов. Другая создавала свои модели из компьютерных программ.
В цветущей юности обе имели успех, за обеими одинаково ухаживали представители других отраслей знания, и они прекрасно уживались вместе. Отношения изменились в начале шестидесятых годов, когда появился новый король с такой казной, какую никогда раньше не видели в королевстве наук. То был король ОАПНП... В поддельной сестре проснулась ревность, и она присвоила себе одной право доступа к деньгам ОАПНП. А настоящей сестре предстояло умереть.
Палачами вызвались быть два верных друга поддельной сестры:
Марвин Минский и Сеймур Пейперт, которым досталась роль охотников, отправленных, чтобы убить Белоснежку и в качестве подтверждения принести ее сердце. Их орудием был не кинжал, а искусное перо, с которого сошла книга под названием «Персептроны»; цель ее состояла в том, чтобы доказать, что создатели нервных сетей никогда не смогут выполнить свое обещание построить модель разума: это смогут сделать только компьютерные программы. Казалось, победа обеспечена... [17].
Разумеется, сказка Сеймура и Пейперта кончается торжеством холистики, хотя теперь многие из создателей искусственного интеллекта не разделяют его оптимизма. Как будет ясно, я считаю сказочную метафору Пейперта такой же неудачной, как и его метафоры памяти и разума. Ни ту, ни другую сестру нельзя сравнивать с Золушкой или хотя бы с Прекрасным Принцем. Оба подхода к моделированию нельзя признать правомерными, если их задача - поиски структурных метафор работы реального мозга и реальной памяти. Тем не менее стоит более внимательно присмотреться к притязаниям обеих сторон.
Как правильно пишет Пейперт, одна группа разработчиков моделей, которых я называю редукционистами, утверждает, что для создания искусственного интеллекта надо с помощью компьютера имитировать известные свойства мозга. Функциональными единицами мозга они считают нервные клетки, или нейроны; сети из этих нейронов хранят, обрабатывают и преобразуют информацию. Задача состояла в том, чтобы создавать математические модели функции нейронов, объединять их в сеть и выяснять, к каким результатам приводят разные способы соединения клеток, в том числе и такие, при которых сети могли бы изменять свои свойства и функции в результате приобретаемого опыта, т. е. «обучаться» и «запоминать». Впервые такую имитацию осуществил Франк Розенблатт в середине 50-х годов с помощью модельной системы «Персептрон». Персептроны были триумфом компьютерного моделирования, однако скоро стало ясно, что они далеко не адекватно отображают функцию реальных нейронов мозга. Хотя они, по-видимому, могли обучаться, т. е. изменять свойства в ответ на введение новой информации (например, узнавать и классифицировать простые рисунки), они были совершенно неспособны решать более сложные задачи, хотя бы отдаленно напоминавшие реальные жизненные ситуации.
Непреодолимые трудности, с которыми столкнулось моделирование нейронов, и теоретические ограничения, выявленные Пейпертом и Минским, привели к тому, что в 60-х и 70-х годах этот подход был практически оставлен. Именно в это время оценка будущих перспектив искусственного интеллекта, проведенная при финансовой поддержке британского правительства, показала, что они были сильно преувеличены, и объем таких работ был значительно сокращен [18].
Однако в конце 80-х годов интерес к этой области опять пробудился в связи с появлением совершенно новых возможностей. Компьютеры первых поколений были, по существу, последовательными процессорами, т. е. в каждый данный момент осуществляли только одну операцию; переработка информации носила линейный характер, хотя и шла с невероятно большой скоростью. Однако сам принцип линейных операций накладывал ограничение на скорость работы машины, так как сигналы из одной части компьютера в другую не могут передаваться быстрее, чем со скоростью света. Этот предел получил название ограничения фон Неймана. Когда новые поколения супермашин приблизились вплотную к этому пределу, разработчики компьютерных моделей обратили, наконец, внимание на то, что настоящий мозг работает совсем иначе. Он производит множество операций одновременно, причем в осуществлении какой-то одной функции участвуют разные части нейронной сети, а каждая отдельная клетка может выполнять разные функции. Ограничение, накладываемое скоростью передачи сигналов, можно бьию бы преодолеть, если бы удалось создать компьютеры, более сходные с мозгом, т. е. способные осуществлять различные операции не только последовательно, но и параллельно.
Результатом был взрыв интереса к новым конструктивным решениям, основанным на принципе параллельной и распределенной обработки информации (ПРО). Появилось новое перспективное поколение машин, заинтересовавшее и военных, и промышленность, и разработчиков искусственного интеллекта, хотя, разумеется, только два первых члена этой триады несли расходы по их созданию. Вот один из показателей масштабов этого интереса: в конце 80-х годов Директорат Европейского сообщества по научным исследованиям посчитал, что Европа отстает от США и Японии в эксплуатации этих новых систем, и выделил 50 млн. экю (около 50 млн. долларов США) на работы по моделированию нервной функции на основе ПРО. Когда в 1986 году Дэвид Румелхарт и Джеймс Клелланд с их коллегами из Массачусетского технологического института выпустили большой двухтомник статей по перспективам применения ПРО для моделирования мозга, в день поступления его в продажу, говорят, было продано 6000 экземпляров [19].
Новый подход к моделированию известен под названием «коннекционизма». Подобно прежнему подходу, он основан на предположении, что мозг состоит из ансамблей нейронов с многочисленными связями между ними. Надлежащим образом' соединенные группы нейронов могут обучаться таким образом, что они будут сортировать и классифицировать входные сигналы и постепенно изменять свои свойства по мере поступления новой информации. Однако в отличие от моделей прежнего, персептронного типа каждый элемент «памяти» не заключен здесь в одной-единственной клетке или паре связанных клеток: вместо этого функция памяти является свойством нейронной сети как целого. Кроме того, если в персептронных моделях отдельные функциональные единицы сети должны были получать сигналы прямо из внешнего мира и соответственно изменять свои свойства, то в новых коннекционистских моделях нейронные сети более сложны - они включают слои «клеток», расположенных между входными и выходными элементами (разработчики называют их «скрытыми слоями»). Это резко повышает эффективность системы. Первые поколения моделей искусственного интеллекта были организованы таким образом, будто мозг - это простой телефонный коммутатор с прямыми связями между органами чувств, например глазами и ушами, и исполнительными органами, такими как мышцы. Эти модели фактически игнорировали тот факт, что большинство нейронов в достаточно сложном мозгу не связано непосредственно с внешним миром через сенсорные входы и двигательные выходы; такие нейроны соединены лишь между собой: они получают сигналы от других нейронов и отвечают на них. Иными словами, обычно происходит сложнейшая внутренняя переработка любых поступающих извне сообщений при участии промежуточных нейронов, и только после этого могут приниматься решения о внешних реакциях. «Скрытые слои» в моделях ПРО действуют наподобие промежуточных нейронов, и это намного повышает способность системы к обучению, обобщению и прогнозированию.
Коннекционистские модели привлекательны для промышленности и военных тем, что позволяют преодолеть прежние ограничения эффективности компьютерных систем. Но не меньший взрыв энтузиазма они вызвали и среди нейробиологов, многие из которых считают, что наконец получили модель, весьма сходную с мозгом или хотя бы с какими-то его отделами. В последние три года множество новых научных журналов публикует сообщения о моделях нейронных сетей, претендующих на объяснение различных аспектов работы мозга. Командиры и идеологи этой Армии Моделей беспрерывно кружат по всему свету, переезжая с одних авторитетных конференций и семинаров на другие и едва успевая заглянуть в собственные кабинеты и лаборатории, чтобы собрать новейшие данные и снова мчаться в аэропорт.
К ним начинают прислушиваться даже философы. Одной из книг, популярных сре^и нейробиологов, вообще-то не склонных к чтению философских трудов, стала недавно вышедшая «Нейрофилософия» Патриции Чёрчленд из Калифорнии [20]. Автор рассматривает традиционные философские проблемы сознания и сопоставляет их с данными современной нейробиологии, а затем приходит к выводу, что в ней властвует редукционизм. По мнению Чёрчленд, спасение - в коннекционистских идеях. Вслед за книгой она опубликовала в солиднейшем журнале «Science» пару статей в соавторстве с нейробиологом Терренсом Сейновским из Сан-Диего, где рассмотрены перспективы науки, которую они называют вычислительной нейробиологией [21]; теперь это название в свою очередь попадает в заголовки других книг и журналов. Тот факт, что философы, создатели моделей и нейробиологи начали прислушиваться друг к другу и что компьютерщики наконец-то стали с известным уважением относиться не только к искусственному, но и к природному мозгу, делает их анализы более обоснованными. Раньше энтузиасты искусственного интеллекта подходили к функции нервных клеток с предвзятым мнением и в результате очень скоро теряли всякое представление о реальных биологических явлениях, изучаемых нейробиологами. Однако восторженный прием, оказанный нейробиологами книге Чёрчленд, объясняется, на мой взгляд, тем, что она не оспаривает наши представления, а скорее демонстрирует довольно некритичное почтение к ним. В результате ее книга выглядит льстивым зеркалом, в котором нам дают увидеть себя в весьма привлекательном виде1. И дело не только в том, что в отражении мы не видим мелких дефектов своей кожи. Сама наша поза, по-редукционистски неудобная, выглядит позой голливудского героя. Тем не менее недостатки коннекционистской нейробиологии и порожденной ею философии очевидны и, я полагаю, в конце концов приведут к их краху по причинам, которые я постараюсь объяснить в дальнейшем.
Пока же вернемся ко второй из двух сестер в сказке Пейперта - «поддельной», или «холистической». При холистическом подходе не делалось попыток моделировать мозг - все внимание было сосредоточено на моделировании разума. Иными словами, разработчики старались понять те явления, которые они принимали за функции сознания, такие как «верование, слушание, наблюдение, ощущение, поиск, объяснение, требование, просьба...» (я привожу этот эклектичный, но очень характерный набор процессов из последней книги Минского «Общество разума» [22]). Затем они пытались моделировать логику этих процессов независимо от того, насколько создаваемые модели можно было уподобить настоящему мозгу. Важно было лишь то, чтобы модели «работали». Иными словами, они должны были давать на выходе такой результат, какой, по мнению разработчиков, давал бы человеческий мозг, если бы он выполнял те функции, которые они хотели воспроизвести в своих моделях.
1 И все же многие неиробиологи чувствуют себя не очень уютно, читая у Чёрчленд о редукционизме. Это обнаружилось пару лет назад на одной из конференций в Швейцарии, так любимых нейробиологами, где была возможность покататься на горных лыжах. Участники проводили в первой половине дня научные заседания, а до того и после того занимались делом, т. е. выходили на склон и вечером оставались там, пока не стемнеет или пока не иссякнут силы. Такое времяпровождение, вероятно, лучше всего попадает под хорошо известное определение «досуг после теоретизирования». Темой конференции были «взаимоотношения между нейроанатомией и психологией», а открывать дискуссию должна была Чёрчленд. Она взошла на редукционистскую кафедру и стала проповедовать грядущее сведение психологии к нейроанатомии, ожидая, по-видимому, лишь легкой критики со стороны группы нейробиологов. К своему удивлению, она столкнулась с сильной оппозицией большинства присутствующих, особенно из лагеря нейроанатомов!
Чтобы лучше понять разницу между двумя подходами, представьте себе, например, человека, стреляющего в тире по движущимся металлическим уткам. Приверженец коннекционистских моделей с параллельной обработкой информации спросил бы: как должны быть связаны нейроны, чтобы подвижные изображения передавались через сетчатку глаза в надлежащие области мозга («скрытые слои»), и как должны при этом изменяться их свойства, чтобы они могли «научиться» вызывать соответствующие моторные реакции? Сторонник холистического подхода поставил бы вопрос иначе: как можно построить такой сервомеханизм, который получал бы информацию о положении и движении уток и соответственно управлял движениями стрелка? Будут ли. выходные реакции такого механизма сходны с реакциями человека, решающего ту же задачу? И если не будут, то почему?
На протяжении почти всей сорокалетней истории искусственного интеллекта преобладал второй из этих подходов. Однако, развивая его, разработчики совсем перестали думать о том, как работает настоящий мыслящий мозг. Вместо этого они сосредоточили внимание на решении проблем, связанных с конструированием силиконовых элементов компьютера и с разработкой математической логики. Это могло приводить к созданию более сложных и эффективных машин, но не имело никакого отношения к биологическим системам, которые вначале предполагалось моделировать. Общее мнение сторонников такого подхода откровенно выразила Маргарет Боден - философ из Суссекского университета - такими словами: «Чтобы быть мозговитым, мозги не нужны» [23].
Порочная метафора
К чему бы ни призывали разработчики моделей того или иного типа, я считаю, что оба подхода порочны в своей основе, если задача состоит в том, чтобы понять, как работают природный мозг и природный разум (или даже память). Отсюда и провал всех прежних предсказаний о возможных сроках создания искусственного интеллекта и появления компьютеров, подобных мозгу: наиболее оптимистичные последователи Винера в пятидесятых годах уверенно ожидали этого к концу шестидесятых, потом откладывали до семидесятых, восьмидесятых, а затем и на начало третьего тысячелетия. Но время шло, на смену персептронам приходили новые модели и программы и так же исчезали.
Недавно с критикой методологии и перспектив разработки искусственного интеллекта выступили три автора - философ, математик и иммунолог. Я кратко изложу их доводы, прежде чем перейду к моим собственным проблемам, связанным с вычислительной аналогией.
Первым идет философ Джон Сирл, который для аргументации своих взглядов ставит тест Тьюринга как бы с ног на голову. Представьте себе, что в закрытой комнате находится человек, который не знает китайского языка, но через машину получает вопросы, написанные по-китайски. В его распоряжении имеется код, позволяющий сопоставлять китайские иероглифы с другим набором текстов, содержащим ответы на задаваемые вопросы. Эти ответы можно передавать, опять-таки с помощью машины, за пределы комнаты. Находящимся снаружи наблюдателям будет ясно, что на заданные по-китайски вопросы поступают осмысленные ответы на том же языке; таким образом, тот, кто находится в комнате, выдержит тест Тьюринга. Но из этого никак не следует, что он понимал содержание посланий, поступавших в комнату и выходивших из нее, и отвечал на них сознательно и разумно: на самом деле он выполнял чисто автоматические операции. Именно это, говорит Сирл, делают компьютеры, и потому нет оснований считать их разумными и сознательными устройствами [24].
Второй автор - оксфордский математик Роджер Пенроуз, чья недавно вышедшая книга «Новый ум императора» содержит последовательную критику принципов коннещионизма [25]. Точка зрения Пенроуза по сути очень проста: для того чтобы эти принципы работали, в нейронной сети между клетками должны существовать достаточно стабильные, фиксированные отношения, которые могут изменяться лишь в ответ на специфические входные сигналы, после чего система должна реагировать детерминированным образом. По мнению Пенроуза, против этого говорят современные физические и математические представления. Квантовые механизмы, по его утверждению, обусловливают изначальную недепгерминированность нервных реакций; что касается математики, то ставшая весьма модной теория хаоса показывает, как недетерминированные системы могут тем не менее действовать вполне упорядоченным образом (например, случайное хаотическое движение молекул газа в сосуде приводит в целом к точной и предсказуемой зависимости между температурой, давлением и объемом, которую описывает простой газовый закон Бойля).
Таким образом, по мнению Пенроуза, стратегия редукционизма не выдерживает критики по двум взаимосвязанным причинам. Во-первых, недетерминированность на уровне нейронов и синаптических связей между ними означает, что мы никогда не сможем понять работу мозга и разума путем простого анализа составляющих компонентов, реакции которых непредсказуемы по самой своей природе. Во-вторых, эта неопределенность на уровне отдельных компонентов может, однако, обеспечивать предсказуемость на уровне всей системы. Поэтому сознание, разум, память возникают как свойства мозга в целом, а не как свойства его отдельных элементов.
Третьим критиком искусственного интеллекта и лежащих в его основе методов обработки информации выступает лауреат Нобелевской премии, иммунолог и теоретик из Рокфеллеровского университета Джералд Эделмен. В своем недавно вышедшем трехтомном труде [26] он пытается решить необычайно смелую задачу - создать общие теории биологии развития, нервной организации и сознания на основе аналогии, почерпнутой не из физики или техники, а из эволюционной теории и прежде всего из собственного понимания дарвиновского естественного отбора. Кое в чем я согласен с критикой Эделмена, хотя и не поддерживаю его в выборе аналогии; однако более подробное обсуждение этого вопроса требует дополнительных биологических сведений, которьгх я еще не дал читателю, и поэтому я откладываю его до последней главы. Сейчас я хотел бы поговорить о том, почему меня не удовлетворяет сравнение мозга, разума и памяти с компьютером и его вычислительными функциями.
Эта аналогия, столь завораживающая многих, всегда воспринималась с подозрением биологически мыслящими представителями нейронаук по причинам как структурного, так и организационного порядка. В структурном отношении платы с транзисторами, системы «и/или», логические схемы и другие элементы компьютеров совсем не похожи на аналогичные механизмы нейронов, если последние вообще можно рассматривать как единицы обмена информацией в пределах нервной системы. Функциональные единицы компьютеров детерминированы, имеют малое число входов и выходов, а процессы, осуществляемые ими с такой поразительной правильностью, протекают последовательно и свободны от ошибок. Элементы ЭВМ хранят и обрабатывают информацию по заданному заранее набору правил. Одно из следствий этого - то, что создатели компьютерных моделей мозга настойчиво пытаются конкретным образом воплотить отдельные типы процессов, в которых участвует разум или мозг. В частности, сама концепция «искусственного интеллекта» подразумевает, что разумность есть просто свойство самой машины (я бы сказал, что такая материализация равно неприемлема и в отношении компьютеров, и в отношении мозга).
Сравнение мозга с компьютером несостоятельно, так как системы нейронов, образующие мозг, в отличие от компьютерных систем в высокой степени недетерминированы. В этом утверждении я иду даже дальше Пенроуза, поскольку я хочу подчеркнуть, что нельзя рассматривать мозг и его обладателей - прежде всего человеческий мозг и самого человека - как закрытые системы вроде молекул газа в запаянном сосуде. Совсем наоборот, это открытые системы, сформированные собственной историей и находящиеся в непрерывном взаимодействии с природным и общественным окружением, которое изменяет их, но и само при этом подвергается изменению. Такая открытость обусловливает еще один уровень неопределенности в работе мозга и поведении его владельца. В отличие от компьютеров мозг не функционирует безошибочно и действие его не ограничено последовательной обработкой информации; его организацию нельзя даже свести к небольшому числу «скрытых слоев». Каждый из нейронов центральной нервной системы имеет тысячи входов (синапсов), различных по значимости и по месту, откуда к ним приходят сигналы. (В мозгу человека имеется, по-видимому, до 1014-1015 синапсов, так что у каждого из нас в сотню тысяч раз больше межнейронных связей, чем людей, живущих сейчас на Земле!) Мозг отличается большой пластичностью, т. е. способностью изменять свою структуру, химию, физиологию и выходные реакции в результате приобретения опыта и случайных обстоятельств в процессе развития. В то же время он обладает большим запасом надежности и может весьма эффективно восстанавливать свои функции после травмы или инсульта.
Последовательные операции мозг выполняет относительно медленно, зато процессы формирования суждений происходят в нем с необыкновенной легкостью, которая ставит в тупик разработчиков компьютерных моделей.
Рассмотрим простой эксперимент: человеку быстро показывают четыре цифры и просят его запомнить их, а потом назвать. Почти каждый легко справится с этой задачей. Но если число цифр увеличить до семи-восьми, это станет не по силам большинству испытуемых, особенно в том случае, если интервал между предъявлением цифр и просьбой вспомнить их будет увеличен с нескольких минут до часу и более. Максимальную способность человека запоминать ряды случайных цифр можно довольно просто рассчитать и выразить в битах, как описано ниже для последовательности из восьми цифр: - сначала подсчитывают биты для самих чисел:
8-log2l0=8-3,32=26,56;
- затем, поскольку цифры должны стоять в определенном порядке, нужно рассчитать информацию об этом порядке, которую можно выразить как log28!= 15,30.
В общей сложности получается всего лишь 41,86 бит, и тут оказывается, что емкость нашей памяти недостаточна, чтобы справиться с таким объемом! Теперь сравните эту величину с числом битов, на которое рассчитана память простого карманного калькулятора: примерно одна тысяча. А десятисантиметровый мягкий диск двойной плотности, вставленный в мой любимый «Эппл Мэк», на котором я печатаю эти фразы, способен хранить в своей памяти более 10 млн. бит информации.
В чем же действительный смысл такого подсчета? Джон Гриффит, математик из Кембриджа [27], однажды прикинул, что если бы человек непрерывно запоминал информацию со скоростью 1 бит в секунду на протяжении 70 лет жизни, то в его памяти накопилось бы 1014 бит, что приблизительно эквивалентно количеству информации, заключенному в Британской энциклопедии или в 10 000 мягких дисков; это почти столько же, сколько вмещает жесткий диск в моем компьютере. Весьма впечатляющая цифра для микро-ЭВМ, но на удивление скромная для функционирующего мозга.
Неужели объем человеческой памяти действительно меньше, чем у микрокомпьютера? Очевидно, что-то не в порядке со всеми этими расчетами. Что бы это могло быть? А вот и подсказка: хотя я не способен запомнить больше восьми цифр, вспыхивающих передо мной на экране, я однажды продемонстрировал слушателям возможности человеческой памяти, сначала показав гораздо более длинный ряд из 48 цифр, а затем повернувшись к экрану спиной и правильно назвав их:
524719382793633521255440908653225141355600362629.
Как мне удалось это, если я не выдержал испытания даже восемью цифрами? Очень просто. Этот длинный перечень был не случайным набором цифр, а последовательностью дат дней рождения, телефонных номеров и других цифровых кодов, которыми я постоянно пользуюсь и потому помню. Но я помню их не так, как компьютер безошибочно помнит цифровую информацию, и не храню их в своей памяти как непрерывную последовательность. В отличие от компьютерной человеческая память постоянно ошибается и пользуется множеством особых приемов, чтобы сохранить информацию. Для меня эта особенная, уникальная последовательность цифр имеет смысл, и он известен только мне. Этим я отличаюсь от компьютера и от того переводчика с китайского, который сидит в комнате Сирла. Я вспоминаю цифры именно по их смыслу, а не по простой последовательности. Более того, я настаиваю, что смысл, значение не синонимичны информации. Смысл подразумевает динамическое взаимодействие между мною и цифрами, это процесс, который несводим к количеству информации.
Другой пример. Вчера за обедом мне принесли меню с большим выбором блюд. Я просмотрел его, выбрал кое-что и съел. Я и сегодня помню, что обед состоял из капустного супа и отварной лососины. Информация, содержавшаяся в печатном тексте меню, преобразовалась в воспоминание об испытанных ранее вкусовых ощущениях, затем в устный заказ официанту и, наконец, в восприятие реальной пищи и ее нынешнего вкуса. Теперь, когда я рассказываю вам, что ел капустный суп и лососину, я не предлагаю вам ни меню, ни саму пищу, еще меньше я предполагаю, что вы отведаете ее; вместо этого я продолжаю трансформировать мой вчерашний опыт, переводя его в слова [28]. В каждом звене этой последовательности происходит не просто переключение с одного способа представления информации на другой, а определенная работа с этой информацией, которая приводит к ее необратимому преобразованию (я не говорю уже о работе, которую проделывает любой слушатель или читатель этого описания в ходе дальнейшей трансформации полученных сведений и интерпретации приведенных мною данных).
Таким образом, мозг работает не с информацией в компьютерном понимании этого слова, а со смыслом, или значением. А значение - это исторически формируемое понятие, оно находит выражение в процессе взаимодействия индивидуума с природной и социальной средой. Одна из трудностей изучения памяти состоит в том,, что приходится иметь дело с диалектическим феноменом. Вспоминая, мы всегда выполняем над воспоминанием какую-то работу и трансформируем его. Мы не просто извлекаем образы из хранилища и, использовав, возвращаем обратно в прежнем виде, а каждый раз пересоздаем заново. В заключительной главе мне придется более обстоятельно поговорить об этой работе по пересозданию следов памяти.
Моя критика до сих пор касалась моделей коннекционистского типа, однако сходные аргументы могут относиться и к холистическому подходу. Достаточно вспомнить контраст между относительной легкостью, с какой программисты смогли научить машины играть в шахматы на гроссмейстерском уровне, и трудностями, с которыми они столкнулись при создании робота, способного водружать оранжевую пирамиду на синий куб. И для сравнения посмотрите, как точно нетренированный человек бросает апельсиновую кожуру в мусорную корзину с расстояния в несколько метров от нее или, например, как легко обучается игре в покер. Конечно, можно создать программу для расчета вероятности взятки при выпадении карты в масть к трем уже имеющимся; но в покере мы, кроме того, имеем дело с чем-то вроде психологического соревнования, с необходимостью перехитрить соперника, что требует оценки моментов, не поддающихся рациональному познанию; а с такой оценкой, я уверен, не сможет хорошо справиться никакая машина. Можно еще получить какое-то удовольствие, играя с компьютером в шахматы, но при игре в покер против программы это исключено. Может быть, надо заменить тест Тьюринга или Сирла покерным тестом?
Попытки холистов обойти стороной проблему мозга и сконцентрировать все внимание на моделировании разума выхолащивают реальное биологическое содержание из психологии, пытающейся объяснить поведение. Эта сухая, почти схоластическая методология утверждает, что стоит только идентифицировать определенные свойства разума и связанные с ним процессы, как можно будет смоделировать эти свойства и процессы в абстрактнь1х экспериментах или наборе математических символов, а потом воплотить их (может быть, лучше сказать «вмашинить») в силиконовых деталях, световых переключателях или магнитных монополях не хуже, чем они воплощаются в сложных органических структурах, из которых в процессе эволюции был создан настоящий мозг [29]. Так и возник афоризм Боден: «Чтобы быть мозговитым, мозги не нужны», которым она хочет сказать, что мозговые функции можно моделировать, пользуясь новейшими, особо мощными компьютерными системами, полностью игнорируя их биологическую природу. Нужны только соответствующие механизмы или их математические модели, которые реагировали бы на входные сигналы и формировали ответы, подобные тем, что формируются в мозгу. Такие системы будут работать наподобие систем машинного перевода, преобразующие французскую фразу в ее английский эквивалент, хотя способ осуществления такого перевода может ничем не напоминать приемы, используемые для той же цели людьми.
Отделение разума от его конкретной материальной основы в известном смысле возвращает нас к старой картезианской концепции дуализма «мозг - сознание». В то же время отношение к мозгу, как к некоему черному ящику, где важна только зависимость между входом и выходом, а внутренние биологические процессы и механизмы несущественны, напоминает бихевиористский подход в психологии, о котором речь более подробно пойдет в главе 6.
Концепции психики и мозга бихевиористам не нужны. Поведение человека и других животных они объясняют на основе его собственных закономерностей, видя в нем просто цепи реакций, вырабатывающихся в результате вознаграждения или наказания за те или иные ответы на стимул. Если картезианский дуализм считать тезисом, а бихевиоризм антитезисом, то программа холистов, отраженная в лапидарном лозунге Боден, будет своего рода лукавым гегельянским синтезом.
Для того чтобы раскрыть смысл афоризма Боден, давайте рассмотрим аналогичное утверждение: «Чтобы передвигаться, не обязательно иметь две ноги». Конечно, это утверждение верно. Можно перемещаться по земле на четырех ногах, подобно лошади, или имея много ног, как сороконожки, или вообще без ног, как змеи или улитки. Можно двигаться на колесах по рельсам, как движется железнодорожный состав, или более свободно, как автомобиль, либо, наконец, с помощью гусениц, как танк. Можно передвигаться на воздушной подушке или использовать магнитную подвеску. В конце концов, можно представить себе и путешествие на ковре-самолете. Все эти способы в функциональном отношении сводятся к переходу из точки А в точку Див этом смысле совершенно эквивалентны. Однако принципы, на которых они основаны, очень сильно, иногда радикально, различаются. Если нас интересует специальный вопрос о ходьбе, ее происхождении, способе осуществления, временном расстройстве под влиянием алкоголя или более длительном нарушении в результате мозговой травмы, то чтение сказок о летающих коврах или изучение автомобильного двигателя и даже оставляемого змеей волнистого следа принесет мало пользы. Но именно такого рода специфические механизмы интересуют большинство исследователей мозга, какими бы скучными и тривиальными они ни казались философам.
Чтобы это утверждение не показалось чересчур полемичным, взгляните на перечень процессов, которые предлагается моделировать в упоминавшейся ранее книге Минского. «Сознание» (mind) представляется автору как «сообщество» произвольно выделенных и иерархически организованньис «агентов» - «памяти», «гнева», «сна», «требования», «верования» и т. п. - словом, всего, что придет на ум. Эти ярлыки приклеиваются затем к «черным ящикам» (кружкам со стрелками на бумаге), связанным между собой достаточно произвольно; из этого и должна будто бы выкристаллизоваться теория сознания. Такие упражнения представляют собой классический пример перевернутого с ног на голову подхода, весьма далекого от биологического мира, в котором живу я сам и, осмелюсь предположить, большинство других людей. Как можно судить, какие из этой мешанины разнородных и по видимости произвольно выбранных агентов «сообщества сознания» Минского проявляют себя в мозговых процессах, поддающихся наблюдению? Допустим, я придумал бы совершенно иной перечень, включающий, например, «духовность», веру в «мутантных черепах», «скептицизм» и «неспособность отличить гамбургер от его полистироловой упаковки». Каким образом я мог бы решить, на что похожи «агенты» в мозгу любого человека - на агенты Минского или мои? Дело, несомненно, в том, что можно предложить поистине бесконечное число подобных моделей (в виде черных ящиков, соединенных стрелками), способных выдержать нечто вроде теоретического теста, поскольку в случае недостаточной эффективности модели всегда можно придать стрелкам иное направление, добавить новые или представить их не сплошными, а пунктирными линиями. В этом воображаемом мире можно пририсовать змее конечности или для удобства надеть на ноги людей роликовые коньки, чтобы получить «правильный» результат. Но реальный биологический мир подвергает эмпирическую науку гораздо более жесткому испытанию действительностью. Холистические модели Минского - это именно тот тип аналогий, который меньше всего нужен нейробиологам, пытающимся понять биологически реальные мозг и поведение.
Я отнюдь не оспариваю ценности компьютерного моделирования и используемых в нем аналогий. Поиск аналогий - важнейшая составная часть научной работы, и без него нейробиология не может рассчитывать на успех в понимании реального1, т. е. биологического, мозга и его функций; с другой стороны, прогресс в области искусственного интеллекта зависит от правильного биологического обоснования, а не от выбора чисто рациональных, когнитивньк, перевернутых моделей. Но исследования по искусственному интеллекту не должны выходить за определенные рамки, не должны опрокидывать метафоры, отдавая предпочтение чистому моделированию перед биологией; они, напротив, должны выказывать некоторое смирение перед своим удивительным объектом - мозгом.
1) Еще в черновом варианте этой главы я потерял счет употреблению слова «реальный», часто вымарывая его по той причине, что споры между реалистами и социальными конструктивистами как в философии, так и в социологии научного знания достигли высокого накала, и использовать этот термин, не защитив его живой изгородью оговорок, - значит подвергать себя риску быть обвиненным в интеллектуальной наивности или в естествоиспытательском пренебрежении к другим формам понимания мира, которые тоже сродни интеллектуальной наивности. Но я не намерен здесь вмешиваться в эти споры. Для тех, кто хочет, чтобы я продолжал избранную линию, скажу, что считаю себя в основном реалистом, остающимся в рамках исторической релятивистской традиции; короче говоря, я верю, что существует материальная вселенная, о которой мы можем получить определенную сумму достоверных знаний, хотя эти знания окрашены нашей исторической и социальной принадлежностью, ограничены современным состоянием технологии и рамками, в пределах которых мы стремимся получить эти знания [30]. Это означает, что, говоря о «реальном» мозге, я готов без колебаний защищать перед сомневающимися социологами и философами его существование и свою способность получать объективные сведения о самом мозге и способах его функционирования. Но только не сейчас. С вашего позволения сейчас я займусь другим.
Память - природная и искусственная
В начале этой главы я говорил о том, что древнегреческие и римские философы и риторы различали два вида памяти - естественную и искусственную. Искусственную память можно тренировать и уподоблять ведению записей на .восковых табличках, что вело к поиску технологической метафоры. Напротив, природная память дана человеку как присущее ему свойство, которое не требовало объяснения, а просто признавалось. Однако, как я уже говорил, взаимодействие нашей технологии с нашей биологией настолько сильно, что само формирование технологизированного общества, в котором центральную роль стали играть искусственные аналоги памяти, изменяет природу этой функции. Акт письма, как признавал и Платон, и заирский сказитель, фиксирует текучую динамичную память устных культур в линейной форме. Появление печатных текстов для массового чтения, в отличие от изготовлявшихся вручную и потому различавшихся копий того или иного манускрипта, сопровождалось, как отмечает Уолтер Онг, дальнейшей стабилизацией памяти и усилением контроля над ней, стандартизацией и коллективизацией наших представлений. Это создает «ощущение замкнутости не только в литературных произведениях, но и в аналитических, философских и научных работах. Изобретение книгопечатания дало катехизисы и «учебники», более догматичные и менее спорные, чем большинство предшествовавших рукописных текстов... В катехизисах и учебниках приводились запоминающиеся «факты», категоричные утверждения... Запоминавшиеся утверждения устных культур - в большинстве случаев... не «факты», а скорее их «отражения...» [31].
Современная техника - фотография, киносъемка, видео- и аудиоаппаратура и прежде всего компьютеры - вызывает еще более глубокую перестройку сознания и памяти, устанавливая новый порядок познания мира и воздействия на него. С одной стороны, техника замораживает память, делая ее столь же неподвижной, как лица на фамильных портретах, написанных сепией в викторианскую эпоху, заключая ее в подобие наружного скелета, не позволяя ей созревать и развиваться, как это было бы в отсутствие сдерживающих факторов и постоянных внешних воздействий на внутреннюю систему памяти. С другой стороны, современная техника коварно устраняет барьеры между фактом и вымыслом. Достаточно вспомнить увлечение телевидения документальными драмами или фильм с Вуди Алленом, в котором неожиданно видим, как Гитлер обращается к своим сторонникам на Нюрнбергском процессе.
Эти противоречия я ощущаю и сейчас, когда набираю свой текст на компьютере и он появляется передо мной на экране. Раньше, когда я начерно писал главу какой-нибудь книги, мне сначала предстояла утомительная работа пером, потом я подправлял и перепечатывал текст, приводя его в более или менее окончательный вид, так как новые перестановки слов и перегруппировки материала были слишком трудоемки, чтобы прибегать к ним без особо серьезных оснований. Сейчас все проще. Эта глава, которая должна была бы писаться последовательно с начала до конца, на самом деле росла путем вставок в самые разные места первоначального наброска; прежде последовательные куски были бы зафиксированы и не подлежали перестановке, а теперь они обретают крылья и легко целиком перепархивают в другие разделы. Я помню ранее намеченный план расположения материала, но современная техника раскрепощает мою память, и та отказывается подчиняться прежней дисциплине. Различие, которое проводили Платон и Цицерон между природной и искусственной памятью, больше не существует. Если изучение памяти требует отказа от компьютерных моделей и метафор в пользу биологических и «реальных», мы все же должны признать, что сама природа памяти и ее механизмы изменяются под влиянием технических средств, объяснительный потенциал которых мы отвергаем.
Все это, вероятно, помогает понять необыкновенный интерес к природе памяти, столь характерный для литературы и искусства. Очень хорошо его отразила Джейн Остин в «Мэнсфилд-Парке», заставив свою стоически выдержанную героиню Фанни Прайс размышлять следующим образом: Если какую-то из наших способностей можно счесть самой поразительной, я назвала бы память. В ее могуществе, провалах, непостоянстве есть, по-моему, что-то более откровенно непостижимое, чем в любом из прочих наших даров. Память иногда такая цепкая, услужливая, послушная, а иной раз такая путаная и слабая, а еще в другую пору такая деспотическая, нам неподвластная! Мы, конечно, во всех отношениях чудо, но, право же, наша способность вспоминать и забывать кажется мне вовсе непонятной [32].
Писатели давно пытаются овладеть этой непонятной способностью. Но если для романа XIX века характерно упорядоченное, последовательное вспоминание событий, то на заре двадцатого ее временной порядок нарушается. Для Марселя Пруста, чья пятнадцатитомная эпопея «В поисках утраченного времени» представляет собой одну долгую попытку вспомнить и таким образом преодолеть горькое прошлое, вся цепь минувших событий начинает воскресать в памяти, пробужденная вкусом бисквитного пирожного. Для современных писателей вопрос еще более запутан. В романе канадской писательницы Маргарет Атвуд «Кошачий глаз» разрозненные воспоминания о трудном детстве сводятся воедино только в конце книги, когда героиня находит и держит в руке его эмблему - таинственно окрашенный камень, называемый кошачьим глазом. Рецензент автобиографических романов Дженет Фрейм характеризует их как размышления об обманчивых глубинах памяти, «где в ранние годы время было горизонтальным, шло вперед изо дня в день и из года в год, а воспоминания были истинной историей личной жизни»; но с течением времени порядок и линейность разрушаются [33].
Противоположный пример «избыточной» памяти можно найти в одной из самых необычных новелл аргентинского волшебника слова Хорхе Луиса Борхеса, где рассказывается о молодом человеке по имени Фунес, который, подобно Симониду, казалось, мог помнить все:
Мы с одного взгляда видим три рюмки на столе. Фунес видел все веточки, листья и ягоды на виноградной лозе. Он помнил формы южных облаков на заре 30 апреля 1882 года и мог мысленно сравнить их с мраморным рисунком на кожаном переплете книги, на которую взглянул только раз, и с узором пены под веслом на Рио-Негро в канун сражения при Кебрачо... Воспоминания эти были непростыми - каждый зрительный образ сопровождался ощущениями мышечными, тепловыми и т. д. Он мог восстановить все свои сны, все фантазии. Два или три раза он воскрешал в памяти по целому дню. Он сказал мне: <У меня одного больше 8' воспоминании, чем было у всех людей в мире с тех пор, как мир стоит». И еще: «Мои сны все равно что ваше бодрствование... моя память, сударь, как сточная канава...» [34].
Не случайно, что в новелле Фунес умирает молодым, так сказать, от избытка памяти.
Проблема фиксации, замораживания искусственной памяти приобретает еще более важное значение, когда мы переходим от индивидуальной памяти к коллективной. Можно ли создать пространство, в котором наш собственный опыт включил бы долгий крик обожженного напалмом ребенка с телеэкранов так, чтобы не заморозить, не зафиксировать навсегда этот образ и не лишить тем самым реальную биологическую память ее динамики? Такая фиксация образов дает специфическую новую форму искусственной памяти, к которой с особым недоверием относился Платон. То, что раньше было личным опытом, который формировался и преобразовывался в нашей памяти и в нашем воображении - вроде моих воспоминаний о праздновании дня рождения или о давно забытом мистере Госсе, - теперь становится публичным достоянием. Теперь это часть коллективного опыта, усвоенного даже поколениями, которых еще не было на свете во времена вьетнамской войны или нацистских лагерей смерти. Такие воспоминания служат особенно мощным средством общественного сплочения. Они вошли в нашу общую историю. Но в то же время мы уже не можем воссоздавать и трансформировать их в нашей индивидуальной памяти, полностью включать в наш собственный жизненный опыт и в наше сознание, так как они навечно зафиксированы телекамерами. Более того, те же камеры и создатели фильмов могут переделывать историю, т. е. коллективную память, по повелению Большого Брата с дырой в памяти, всеразрушающего источника-ревизиониста или министра просвещения, убежденного в необходимости помнить 1066-й год.
Новые технические средства открывают беспрецедентные перспективы, с одной стороны, для искусственной памяти, а с другой - для формирования выдуманных воспоминаний, как у Вуди Аллена, и даже рода социальной амнезии, всеобщего забвения, как, например, в сталинские времена, когда ретушеры убирали фигуру Троцкого с фотографий творцов большевистской революции. Сейчас, когда я пишу эти строки. Советское государство и коммунистическая партия тают прямо на глазах изумленного мира, тоже в навечно зафиксированных образах: демонстранты, вытаскивающие из башни водителя-танкиста, или обвиняющий перст Ельцина, указывающий на список заговорщиков, который принужден читать Горбачев. Можно ожидать очередной волны массовой общественной амнезии, поскольку деятели компартии меньшего масштаба спешат теперь заново переписать собственную роль в исторических событиях.
Не удивительно, что общественные движения постоянно испытывают потребность спасти себя от забвения, что их идеи постоянно искажают. С этим столкнулась Маргарет Атвуд - автор романа «История служанки» [35], в котором сделана попытка представить феминистский вариант ближайшего будущего через воспоминания молодой женщины, живущей в управляемом мужчинами фундаменталистском христианском мире. По этому роману был снят дорогостоящий фильм, нашедший зрителя и окупивший затраты благодаря тому, что из произведения было выброшено все, что касается памяти, но всячески обыгрывается сексуальная вседозволенность, которую как раз и критиковал роман Атвуд.
Коллективное в памяти недоступно для нейробиологов с их методами и моделями, так же как для компьютерного моделирования, и поэтому неизбежно ускользает при попытке исследовать его. В связи с этим я вынужден остановиться здесь и вернуться к более безопасным берегам индивидуальной памяти мозга, отложив обсуждение коллективных аспектов до заключительной главы. Окончание же настоящей, четвертой главы должно перекликаться со словами Фанни Прайс, нужно только отбросить мысль, что механизмы памяти «кажутся вовсе непонятными», так как именно здесь вступают в свои права нейронауки. Нельзя оставлять решение этой проблемы романистам или разработчикам моделей, хотя первые, несомненно, лучше справляются с задачей, и их легче читать. Мы должны показать, что память - это нечто большее, чем восковая дощечка, услужливый мальчик-рассыльный или система искусственных нейронов, и даже большее, чем вкус бисквитного пирожного или вид «кошачьего глаза». Как пишет психолог Далбир Биндра: «Психологи слишком долго пытались игнорировать реальность мозга, отдавая предпочтение физическим, химическим, литературным, лингвистическим, математическим и компьютерным аналогиям. Теперь пришло время заняться самим мозгом» [36].
Глава 5
Дыры в голове - дыры в памяти
Память как создание образов
Примерно через 2000 лет после того, как Цицерон написал свой трактат «Об ораторе», и почти в то же время, когда Борхес в Аргентине писал новеллу «Фунес, чудо памяти», русский нейропсихолог Александр Лурия отыскал необыкновенного пациента: у него, видимо, отсутствовала способность забывать. Лурия наблюдал за этим человеком, фамилию которого (Шерешевский) он заменял одной буквой «Ш», около 30 лет - с 20-х до 50-х годов, прежде чем описал этот случай в своей «Маленькой книжке о большой памяти». Во время одного из обследований в 1934 году Лурия предложил Шерешевскому сложную бессмысленную формулу:
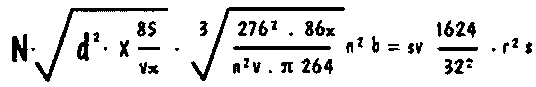
Пациент имел возможность рассматривать эту формулу в течение семи минут, и спустя 15 лет, в 1949 году, его неожиданно попросили воспроизвести ее, что он и сделал безошибочно. Вот как, по его собственным словам, он запомнил формулу: Нейман (N) вышел и ткнул в землю своей палкой: получилась точка (•). Он взглянул вверх, увидел высокое дерево, напоминавшее формой знак квадратного корня (V), и подумал про себя: «не удивительно, что дерево засохло и у него обнажились корни; тем не менее оно уже росло здесь, когда я построил эти два дома (d )». Он еще раз ударил палкой в землю (•). Потом сказал: «дома уже стары, придется избавиться от них (X); выгоднее всего продать». Когда-то он вложил в них 85 000 (85). Затем я увидел, как с дома сняли кровлю (-), а на улице в это время стоял человек и играл на терменвоксе (Vx). Он расположился около почтового ящика, а на углу лежал большой камень (•), который когда-то поместили здесь, чтобы проезжающие повозки не задевали дома. Здесь же есть площадь и большое дерево (>/"), а на нем три галки (3). Здесь я просто помещаю число 276 и квадратную коробку с сигаретами в «квадрате» ( ). На коробке написано число 86. (Это же число было написано на другой ее стороне, но, поскольку я не мог видеть его с того места, где стоял, я не использовал ее, вспоминая формулу.) Буква х - это незнакомец в черном плаще. Он направляется к ограде, окружающей женскую гимназию. Он ищет способ проникнуть через нее (---), у него свидание с одной из гимназисток (л), изящным юным созданием в сером платье. Разговаривая, он пытается одной ногой выбить доску забора, а другой ( )... О! Девушка, к которой он устремляется, оказалась не той. Она дурна собой - фу-у-у (v)... Тут я переношусь назад в Режицу, в мой класс с большой черной доской... Я вижу качающуюся веревку и пытаюсь остановить ее (•). На доске я вижу число л-264 и рядом с ним пишу п^Ь.
Вот я снова в школе. Жена дала мне линейку (=). Я сам, Соломон Вениаминович (sv), сижу в классе. Я вижу, что мой товарищ написал на доске число 1624/322. Я пытаюсь разглядеть, что еще он написал, но позади меня сидят две ученицы, девочки (г ), которые тоже что-то переписывают и шумят, Ш-ш-ш, говорю я, тише! (г). [I].
По словам Лурия, когда он предлагал Шерешевскому упражнения такого рода, поведение последнего было всегда одинаковым: «Он закрывал глаза, поднимал палец, медленно покачивал им и говорил: «Подождите..., когда на вас был серый костюм..., я сидел напротив, в кресле... да!», а затем он тут же, без колебаний, выкладывал всю нужную информацию, полученную много лет назад.
Как ему это удавалось? У Лурия создалось впечатление, что Шерешевский словно читал какой-то текст, как читал бы раскрытую перед ним книгу. Было ли это похоже на рецепты запоминания, предлагавшиеся древним искусством памяти? Шерешевский наверняка не знал о них. Было ли в пациенте Лурия что-то от Фунеса? Или Борхес столь искусно списал все с натуры? Разумеется, судьба Шерешевского сложилась ничуть не счастливее, чем у Фунеса. Он стал рабом своего чудесного дара. Он не мог поддерживать нормальные отношения с другими людьми, так как ему было трудно сводить воедино свои воспоминания о них; лицо в фас и оно же в профиль были для него двумя разными лицами. Такие же трудности он переживал, пытаясь выполнять самую обычную работу, так как память о всяком новом событии мешала делать то, что требовалось в данный момент. По иронии судьбы Шерешевский окончил свой путь, став чем-то вроде артиста мюзик-холла и превратив свою память в средство заработка.
Случай Шершевского исключителен, но не уникален. В 1932 году одна радиокомпания в США наняла для подсчета голосов на проходивших тогда президентских выборах «гениального вычислителя» - некоего Сало Финкельштейна, который, как говорили, считал быстрее любой из существовавших счетных машин. Позднее Финкельштейн попал под наблюдение психологов У.А.Боусфилда и X.Барри, которые описали его технику счета. Вычисляя, он как будто видел перед собой цифры, написанные его собственным почерком на чистой классной доске. Он мог перемещать эти цифры, складывать, вычитать и манипулировать ими, причем результаты этих действий тоже появлялись на доске.
Люди, подобные Шерешевскому и Финкельштейну, обладают тем, что часто, хотя и неточно, называют фотографической памятью. Это название действительно неправильно, потому что они могут творчески манипулировать хранящимися в памяти образами, а не просто обращаться к ним как к навсегда зафиксированным фактам; на это указывает характер ошибок, которые допускают люди с таким типом памяти. Специальное название этого явления - эйдетизм (от греческого «эйдос» - образ) лишь придает понятию большую наукообразность.
Научное знание об окружающем мире доставляют исследования двух типов: поиск закономерностей, лежащих в основе внешне несходных явлений, и анализ причин изменчивости, т.е. небольших различий между сходными явлениями. Эйдетическая память представляет интерес с обеих точек зрения. Она настолько отличается от способа запоминания, присущего большинству взрослых людей, что само это различие ставит вопрос, который иначе не пришел бы нам в голову: а что для нас нормальная память? Редкость эйдетической памяти в сочетании с тем фактом, что обладание ею, видимо, не приносит большого жизненного успеха, не позволяет считать ее столь уж полезным даром. Значит, способность к синтезу и обобщению прошлого опыта, к абстрагированию от него и даже забыванию прошлых событий, возможно, столь же важна для выживания и эффективной деятельности, как и способность помнить их. Если древнее искусство памяти предназначено для того, чтобы помочь всем нам иногда уподобляться Шерешевскому, Финкельштейну и Фунесу, то его успешность определяется тем, что во всех остальных случаях мы пользуемся нашей обычной памятью.
Хотя эйдетическая память редка у взрослых, она довольно часто встречается у детей. Попробуйте воскресить свои ранние воспоминания, и весьма вероятно, что они придут к вам как ряд моментальньк снимков, зафиксированных или «замороженных» во времени. Именно таковы воспоминания моего собственного детства, о которых я писал в главе 3, или образы из рассказа Ингмара Бергмана. Такие описания - совсем не редкое исключение. В начале нынешнего столетия воображение и память эйдетического типа вызывали большой интерес, до 1935 года было опубликовано более 200 научных статей на эту тему, хотя позже она оказалась в стороне от главньк направлений психологических исследований. Судя по результатам ранних работ, несмотря на относительную редкость эйдетической памяти в зрелом возрасте, она выявлялась примерно у половины учеников начальных классов. В 60-х и 70-х годах нашего века Ральф Хейбер, Ян Фентресс и их сотрудники в США продолжили эти исследования, но обнаружили несколько меньший процент учащихся начальной школы с эйдетической памятью. Тем не менее она встречалась достаточно часто у детей обоего пола независимо от их этнической и социальной принадлежности или успеваемости.
В одном из типичных случаев Хейбер показывал детям цветное изображение Алисы и Чеширского кота из иллюстрированного издания «Алисы в стране чудес». На картинке кот сидел на дереве, изогнув полосатый хвост. Картинку демонстрировали очень короткое время, а потом просили детей вспомнить некоторые подробности, например число полос на кошачьем хвосте. Дети вели себя так, как будто считали полосы, имея в голове какой-то зрительный образ [2]. В другом опыте дети, которым показывали картинку с надписями на незнакомом языке, могли потом вспомнить написание слов, будто читали их в открытой книге.
Многие, если не все, дети младшего возраста обычно видят и помнят эйдетические образы, но, подрастая, большинство теряет эту способность. Эта обычная для маленьких детей черта становится исключительной редкостью у взрослых. Такое качественное изменение памяти, возможно, позволяет объяснить большое различие в характере воспоминаний о воспринятом в детстве и в зрелом возрасте. Дело здесь не просто в интервале времени. Тридцатилетний мужчина помнит себя в десятилетнем возрасте по-иному, нежели пятидесятилетний помнит, каким он был в тридцать лет, хотя в обоих случаях прошло одинаковое время. Точно так же десятилетняя девочка помнит, какой она была год назад, иначе, чем пятидесятилетняя женщина помнит себя 49-летней. Память сама претерпевает развитие, и если между девятью и десятью годами ее качество изменяется, то в возрасте около пятидесяти лет она стабильна. Где-то незадолго до полового созревания у большинства из нас существует переходный период, когда восприятие и память изменяются, а воспоминания детства удивительным образом отделяются от воспоминаний зрелого возраста.
Меня несколько удивляет, что психологи, изучающие феномен эйдетизма, как будто ничего не говорят о значении этого поистине драматического изменения одной из фундаментальных функций мозга. Поэтому я чувствую себя вправе свободно рассуждать на эту тему. Как отмечалось в предыдущей главе, одно из коренных отличий человеческой памяти от компьютерной состоит в том, что у человека запоминание представляет собой активный процесс. Сознательно или бессознательно мы отбираем для фиксирования в памяти самую важную информацию из хаотического потока сведений, поступающих из внешнего мира. Такой отбор облегчают сложные приспособления для задержки и фильтрации, предотвращающие загромождение памяти новой информацией.
Так, например, существует механизм, называемый перцептивной фильтрацией, который обеспечивает регистрацию и даже кратковременное запоминание лишь небольшой части информации, поступающей через глаза и уши в любое данное время. Когда я сижу и печатаю этот текст, я не замечаю ненужных листков на рабочем столе, открывающегося из окна вида и даже собственных пальцев, ударяющих по клавишам. Тем не менее все эти вещи остаются в поле моего зрения, я просто не концентрирую на них внимания. Лучше было бы сказать, что я не воспринимаю их, а не то, что я их не вижу. Конечно, еще нагляднее пример с хорошо известным «феноменом вечеринки»: в наполненной людским говором комнате можно (более или менее) сосредоточить внимание на голосе своего собеседника, но при желании удается почти полностью переключаться на другие ведущиеся вокруг разговоры. Это не означает, что во время беседы наш слух закрыт для этих разговоров: они легко воспринимаются без участия нашей воли; например, мы сразу слышим свое имя, упомянутое кем-то из присутствующих. В мозг поступает вся слуховая и зрительная информация, но там она фильтруется с помощью процессов, которые мы в целом не осознаем, но которые классифицируют ее по степени значимости для нас в соответствии с достаточно эффективными критериями. Беда Шерешевского и других, возможно, связана с тем, что у них неполностью функционирует такой фильтрующий механизм.
Но информация, существенная для одного, может быть не нужна другому. Критерии для отбора входных сигналов формируются в результате обучения в процессе нашего собственного развития. Человек как биологический вид обладает необычайной гибкостью. Мы способны выживать при самых разных условиях среды, и это возможно потому, что на протяжении нашего долгого детства мы приобретаем необходимые для этого навыки. Можно думать, что для новорожденного разного рода входные сигналы мало различаются по своему значению. Все они регистрируются и приводятся в систему в рамках возможно более широкой классификации, что позволяет каждому индивидууму выработать собственные критерии значимости. В это время эйдетическая память, не предрешающая заранее роль тех или иных сигналов, имеет жизненно важное значение, так как обеспечивает возможность их анализа в самом широком диапазоне критериев. Но по мере взросления мы учимся отбирать наиболее существенные для нас элементы окружающей обстановки.
Вспомним, как различаются условия жизни детей в городе и в сельской местности. Городской ребенок постигает премудрости улицы, знает марки автомашин и умеет определять их скорость, классифицирует соседей и незнакомых людей по степени ожидаемого от них добра и зла. Ребенок, выросший в деревне, отличает быка от коровы и знает, что деревья - это не одинаковые бурые стволы и ветви, покрытые зелеными листьями. Даже смена времен года имеет для деревенского ребенка большее значение, чем для городского. Эти выработанные на основе детского опыта классификации проникают и в нашу последующую жизнь, сказываются на восприятии, запоминании или узнавании окружающего, хотя большинство из нас, исключая писателей и создателей фильмов, затрудняется четко сформулировать их.
На протяжении большей части эволюции человека - до нескольких последних поколений - никто не сомневался в том, что условия, в которых вырос человек, в основном сохранятся и в период его последующей жизни. Поэтому эйдетическая память детства, обеспечивающая свободу для формирования правил восприятия, ко времени полового созревания постепенно преобразуется в более линейную по своему характеру память взрослого человека, которая у каждого данного индивидуума закрепляет уникальный набор таких правил, помогающих упорядочивать позднейший опыт. Даже в наши дни, когда условия жизни так быстро изменяются на протяжении жизни одного человека, описанный переход (очевидно, определяемый каким-то фундаментальным биологическим механизмом) полезен для выживания. И все-таки у каждого из нас сохраняются фрагментарные эйдетические образы детства.
Изменение памяти во времени
Переход от детской памяти к памяти взрослого человека - это радикальный переход от образного и вневременного отображения прошлого к линейному и организованному во времени. У большинства взрослых людей воспоминания формируются в последовательном порядке и претерпевают ряд изменений со времени возникновения до приобретения в дальнейшем более постоянного характера. Только у отдельных людей в зрелом возрасте сохраняется эйдетическая память детства; развитие их памяти как бы приостанавливается, подобно тому как головастик иногда не может превратиться в лягушку. Мы восхищаемся способностями этих людей, возможно припоминая эйдетические образы собственного детства, но обычно не замечаем, какой ценой достается такой дар. Нас удивляют «ученые-идиоты», гениальные вычислители и профессиональные демонстраторы своих способностей, но никто не хотел бы разделить судьбу Шерешевского или Фунеса. Лучше уж подчиняться законам развития, определяющим переход в зрелое состояние.
Эту зависимость от времени можно продемонстрировать на примере одного из вариантов эксперимента по запоминанию чисел, описанного в предыдущей главе. Предъявите испытуемому, скажем, ряд из семи цифр в течение 30 секунд и через несколько минут попросите повторить их. Большинство людей без особого труда справится с этой задачей: очевидно, они запомнили цифры. Но если попросить их назвать те же цифры спустя примерно час, они скорее всего не смогут этого сделать, так как забыли их. Если же предупредить испытуемого, что предлагаемые цифры (например, семизначный телефонный номер) необходимо запомнить, то весьма вероятно, что он назовет их не только через час, но и спустя несколько дней.
Можно повысить точность наблюдений такого рода, прибегнув к опыту, который был популярен во времена, когда психологи еще не смотрели на биологов свысока. Изобретателем его был Герман Эббингауз, чья книга «Uber das Geddchtnis» («О памяти»), вышедшая в 1885 году, ознаменовала появление нового поколения психологов, которые отвергали излюбленные ранее приемы умозрительного мышления и самонаблюдения, пытаясь изучать психические процессы с помощью столь же точных количественных методов, которые уже давно применялись в физике и начали проникать в науки о жизни, в том числе и в физиологию.
Эббингауза в первую очередь интересовала классификация форм памяти, в частности различие между преднамеренным и непроизвольным запоминанием; далее он исследовал индивидуальные различия в содержании и качестве воспоминаний и, наконец, пытался выявить сходство форм памяти у отдельных людей - иными словами, установить общие закономерности формирования воспоминаний. Для достижения этих целей он откровенно отказался от метафорических толкований памяти, о которых шла речь в главе 4:
Именно из-за неопределенности и слабой специализации наших знаний теории, касающиеся вспоминания, воспроизведения и формирования ассоциаций, до сих пор давали так мало для правильного понимания этих процессов. Например, для выражения наших представлений об их физической основе мы пользуемся различными метафорами («хранилище мыслей», «запечатленные образы», «проторенные пути»). По поводу всех этих риторических фигур определенно можно сказать только одно: они не годятся [З].
Для того чтобы изучать эти общие закономерности, Эббингауз придумал очень простой метод, который с тех пор в разных модификациях служит психологам одним из главных инструментов исследования. Он использовал бессмысленные трехбуквенные слоги из двух согласных и гласной между ними, например ХУЗ, ЛАК, ДОК, ВЕР, ГИХ. На самом себе Эббингауз изучал условия, необходимые для запоминания перечней таких слогов: число предъявлении, интервалы между ними и т. п., пока не добился безошибочного двукратного повторения всего набора. После этого он смог проверить правильность запоминания на срок от нескольких минут до нескольких дней. Для количественной оценки достаточно бьшо установить, сколько предъявлении данного перечня слогов требовалось, чтобы обеспечить его правильное повторение в любое данное время после заучивания.
Эти наблюдения позволили вьгявить определенные закономерности. Например, в любом таком перечне, включающем, скажем, дюжину бессмысленных слогов, некоторые из них запоминаются лучше других, особенно те, что стоят в начале или в конце. Это так называемые эффекты первенства и недавности. Когда их описывают так просто, они кажутся самоочевидными, но Эббингаузу пришлось ясно доказывать, что по крайней мере в данном случае мнение, основанное на здравом смысле, могло быть объективно подтверждено, и это должно быть первым шагом в любой науке. Кроме того, он показал, что однажды заученный перечень в последующем легче выучить вновь, чем совершенно незнакомый. Сравнение числа проб, необходимых для заучивания в первый и во второй раз, позволяет вычислить коэффициент сохранения - показатель прочности памяти.
Этот коэффициент позволяет более точно оценивать ослабление и стабилизацию следов памяти во времени. Так, в одной серии экспериментов с восьмью разными перечнями из 13 слогов Эббингауз на собственном опыте обнаружил, что через 20 минут после запоминания сохранение составляло 58%, через час 44%, через 24 часа 34%, а к 31 дню 21%. Таким образом, утрата следов в основном приходилась на первые минуты; сохранившиеся после этого следы были значительно прочнее.
Результаты этого и других исследований привели к выводу, что запоминание включает несколько процессов. Если информация прошла через перцептивный фильтр и систему оперативной памяти, она попадает в «хранилище» кратковременной памяти. (Обратите внимание на квазикомпьютерную терминологию, хотя само понятие «хранилище», скорее всего взятое из практики сбора урожая, гораздо древнее компьютерной технологии. Я буду и в дальнейшем использовать этот термин ради краткости, но хотел бы, чтобы его правильно понимали; прошу поэтому вдумчиво относиться к случаям употребления самого слова и к его метафорической нагрузке!) Значительная доля материала в кратковременном хранилище теряется, и это, по-видимому, имеет функциональное значение, поскольку вечно помнить все, что нужно только в первые минуты, противоречило бы принципу биологической адаптации. То, чему удалось миновать фильтр кратковременной памяти, попадает в более постоянное хранилище, где, по-видимому, сохраняется неопределенно долго. Оскудение следов в опытах Эббингауза спустя несколько дней после запоминания могло быть результатом забывания, но могло быть и простым следствием занятий другими делами, возможно - заучиванием сходных списков в промежутках между испытаниями, что мешало вспоминанию. Как я отмечал раньше, очень трудно провести различие между такими возможностями, после того как информация поступила на долговременное хранение.
Уильям Джеймс - другой зачинатель современной психологии - имел иную точку зрения на кратковременную и долговременную память, нежели Эббингауз. По его мнению, кратковременная память первична, к ней обращаются для удовлетворения текущих потребностей: «она достается нам как относящаяся к замыкающему отрезку данного временного интервала, а не к истинному прошлому». Эту первичную память Джеймс противопоставлял вторичной, которая представляет собой «знание прошлого состояния ума после того, как оно уже выпало из сознания, или, точнее, знание события, факта, о котором мы не думаем, с дополнительным сознанием того, что мы думали о нем или испытали его раньше» [4].
На протяжении десятилетий после опытов Эббингауза психологи усовершенствовали его метод и расширили сферу его применения. Бесконечно модифицируя условия эксперимента, они изучили действие различных помех на память при предъявлении испытуемым сходного или противоречащего прежнему материала либо до запоминания (проактивная интерференция) или в период между запоминанием и вспоминанием (ретроактивная интерференция). Проводились сравнительные исследования при слуховом и визуальном предъявлении, а также знаменитая серия опытов Фредерика Бартлетта по стратегии запоминания комплексного материала (в Кембриджском университете в 1930-х годах). Полученные результаты ясно показали, что практика улучшает запоминание зачастую потому, что испытуемые вырабатывают способы группировки материала в блоки, что облегчает задачу, как в моем примере с 48-значным числом, который описан в предыдущей главе. В пятидесятых годах психолог Дж. А. Миллер из США сделал забавное наблюдение, что максимальное число таких блоков, поддающееся запоминанию, равно семи, так же как максимальное число цифр в последовательности. Он так и назвал свою ставшую теперь классической статью «Магическое число семь плюс или минус два» [5] и использовал это наблюдение для разработки информационной модели памяти (ограниченные возможности этого метода я уже обсуждал).
Итак, за семьдесят лет, разделяющих работы Эббингауза и Миллера, психологи в результате кропотливых исследований получили систематические данные об объеме, эффективности и пределах человеческой памяти, насколько это было возможно в контролируемых условиях лаборатории. Однако, если не считать методов, позволяющих по-настоящему заглянуть в мозг во время формирования следов памяти, возможности исследования мозговых механизмов памяти с помощью описанных экспериментов и наблюдений над здоровыми взрослыми людьми весьма ограниченны. Настало время перейти от попыток установить общие закономерности памяти на основе сходства к изучению последствий и значения индивидуальных различий памяти. В самом деле, не могут ли расстройства памяти, ее потеря, или амнезия, помочь познанию нормальных механизмов этого феномена?
Болезни памяти
Память меняется не только при переходе от детского к зрелому возрасту, но и в конце жизненного цикла, когда она нередко ухудшается. Пожилые люди зачастую хорошо помнят эпизоды детства и всей прошедшей жизни, но не могут припомнить, что сегодня ели за завтраком. Такие провалы памяти нередко объясняют неизбежными процессами старения или ухудшением функции мозга; прибегая к современной аналогии с компьютером, говорят о переполнении памяти и неспособности мозга усваивать дополнительную информацию. Я не совсем уверен, что причина именно в этом. Меню завтрака - не столь уж важный информационный материал. В течение жизни человек съедает множество завтраков, и если пища стала теперь однообразной и малоинтересной, а один завтрак не очень отличается от другого, то стоит ли вообще помнить о таких вещах? Гораздо интереснее, вспоминая собственную жизнь, попытаться взглянуть на свои ранние и, вероятно, более богатые впечатления с позиций накопленного опыта. Однако другие распространенные жалобы на ослабление памяти, из-за которого человек не помнит, где оставляет самые обычные вещи, хотя бы ключи, или забывает имена других людей, не поддаются столь же простому объяснению.
Зарождение современной науки о болезнях мозга следует отнести к 1881 году, т. е. примерно к тому времени, когда Эббингауз обнародовал результаты своих экспериментов. Тогда вышла книга французского врача Теодуля Рибо, озаглавленная «Les Maladies de la Memoire» («Болезни памяти»). Рибо считал, что если расстройства памяти рассматривать не в контексте анекдотичных проявлений нашего жизненного опыта, а перенести их изучение в более объективные условия лаборатории или приемной врача, то можно будет лучше понять их природу. Известны случаи, когда кратковременная память, по-видимому, не нарушена, но уже через полчаса человек не помнит происшедшего; иными словами, информация не переходит в долговременную память. Ряд патологических состояний сопровождается еще более серьезными нарушениями памяти, вплоть до неспособности вспомнить последовательность из трех или четырех цифр через несколько минут после их предъявления. При обследовании больных, страдающих провалами памяти, врачи пытаются установить те периоды, о которых память сохраняется или же утрачивается. Например, больного сначала просят сразу повторить короткий ряд цифр, потом хотя бы на несколько минут запомнить перечень предметов и, наконец, рассказать, как он провел прошлое лето или описать другой давний эпизод. Таким образом удается выделить разные типы нарушения механизмов памяти, особенно связанные со старением вообще и со специфическими заболеваниями старческого возраста в частности. Первый вопрос имеет целью проверить способности к немедленному узнаванию и вспоминанию, второй - способность вспоминать события спустя несколько минут, а третий - способность воскрешать в памяти далекое прошлое. Можно было бы ожидать, что чем старее воспоминание, тем труднее для пациента приурочить его к определенному времени; однако на самом деле происходит все наоборот: старые воспоминания сохраняются лучше, а недавние легче утрачиваются.
Наиболее известные расстройства такого рода - болезнь Альцгеймера и синдром Корсакова (оба состояния названы по именам впервые описавших их врачей, тогда как Рибо, несмотря на его роль первопроходца, не удостоился такой чести и не увидел своего имени в названии какого-нибудь заболевания). Клиническое изучение указанных болезней, разумеется, в первую очередь направлено на выяснение их причин, биохимических основ и возможных способов лечения, но всегда имеет и подспудную дополнительную цель: попытаться, поняв природу расстройства, пролить свет на механизмы самой памяти.
Среди всех старческих расстройств наибольшие опасения вызывает болезнь Альцгеймера, особенно разрушительная для интеллекта. Еще несколько лет назад ее называли просто сенильной деменцией (старческим слабоумием), а сейчас иногда описывают как «сенильную деменцию альцгеймеровского типа», хотя это заболевание, случается, поражает людей, находившихся еще в расцвете сил. Причины его до конца не установлены - вероятно, здесь могут играть роль многие факторы. Как бы то ни было, у больных уменьшаются размеры мозга, изменяется форма нейронов, а их внутренняя структура дезорганизуется - возникают сплетения нитей и бляшки, видимые под микроскопом. По мнению некоторых авторов, существует генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера, которая может быть как-то связана с болезнью Дауна у малолетних детей. В отдельных случаях действительно есть веские данные о роли генетических факторов, однако это вряд ли позволяет объяснить высокую частоту заболевания в общей популяции. Выдвигались и предположения о внешних причинах, в частности об избыточном поступлении в организм алюминия, который попадает в пищу из материала кухонной посуды или с питьевой водой, что приводит к накоплению этого металла в мозгу. Сплетения белковых волокон в нейронах содержат большое количество алюминия, хотя не ясно, вызывает ли он сам образование этих структур или последние просто связывают его. Критический анализ роли наследственности и факторов среды не позволяет считать их единственной причиной болезни Альцгеймера. Несомненно лишь то, что больные в устрашающей степени утрачивают ощущение собственной личности и способность к воспоминаниям - тем самым, которые для каждого из нас служат стержнем нашей неповторимой индивидуальности. Остается неясным, как эти утраты могут быть связаны со структурными изменениями в мозгу.
Более понятны причины синдрома Корсакова. Обычно это следствие недостатка витамина B1, или тиамина, при хроническом алкоголизме (хотя возможны и другие причины, например вирусный энцефалит или некоторые виды мозговых опухолей). Мозг у таких больных намного меньше, чем у здоровых людей, и для них, как и для страдающих болезнью Альцгеймера, характерно ухудшение памяти, особенно на недавние события. Они неспособны выполнять словесные и иные задачи на запоминание, забывают обычные факты повседневной жизни и не могут планировать самые простые дела, но не испытывают серьезных трудностей при вспоминании событий более далекого прошлого. Таким образом, при синдроме Корсакова в наибольшей степени нарушается кратковременная память. Несмотря на достаточно определенную природу обоих заболеваний и сопутствующий им дефицит памяти, они имеют столь разрушительные общие последствия, что здесь трудно сделать какие-либо специфические заключения о процессах памяти. Даже если оставить в стороне такие заболевания, не видно реального способа разобраться, что имеют в виду, говоря о потере памяти при старении. Процесс старения сопровождается отмиранием части нейронов мозга, которое гораздо более интенсивно происходит при патологических условиях. Соблазнительно поэтому предположить, что и «нормальная» забывчивость у стариков - результат слабо выраженного болезненного состояния. Это побудило некоторых медиков высказать мысль, что существует значительно более распространенное заболевание среднего возраста - так называемое «возрастное ослабление памяти». Ряд фармацевтических компаний стал выделять крупные средства на изучение этого предполагаемого расстройства и поиски потенциальных лекарственных средств для его лечения. В США даже Инспекция пищевой промышленности, лекарственных препаратов и инсектицидов вынуждена была признать, хотя и довольно неохотно, существование такой «болезни». В Великобритании психологи и врачи пока настроены более скептически. В самом деле, еще нет убедительных данных, которые подтверждали бы наличие специфического заболевания или же распространенное мнение о массовом отмирании клеток мозга в период старения. Судя по всему, интеллектуальные функции у стареющих людей действительно изменяются: умственные процессы протекают не так быстро, как в молодости, но зато формируются более рациональные стратегии переработки информации. В обществе, меньше нашего озабоченном погоней за скоростью ради скорости, такое возрастное изменение было бы признано вполне положительным - другие народы называют это мудростью!
Такой же переоценке подлежит и биологический смысл отмирания нейронов мозга, если оно действительно происходит, так как его значение остается не вполне понятным. Ранние стадии развития мозга у плода или новорожденного ребенка характеризуются сначала массовой пролиферацией клеток, а потом неуклонным уменьшением их количества, но пространство, которое занимали утраченные клетки, заполняется новыми разветвлениями отростков сохранившихся клеток и синаптическими связями. «Хорошо» это или «плохо» для функции мозга? Мы не знаем. По-видимому, это часть нормального хода событий во время развития, но не следует поддаваться соблазну и исходить из простого принципа «чем больше, тем лучше». Это автоматически приведет к выводу о неблагоприятных последствиях уменьшения количества клеток в мозгу по мере старения, если будет достоверно показано, что оно действительно происходит в ощутимых масштабах.
В настоящее время нет сколько-нибудь эффективных, биологически обоснованных методов лечения обоих описанных выше заболеваний или «нормальной» потери памяти с возрастом, хотя, как станет ясно из дальнейшего изложения, перспективы их разработки не совсем безнадежны. Запоминание предполагает в первую очередь приобретение опыта и научение с последующим вспоминанием. Неужто жизнь пожилого или больного человека настолько обеднена, что он утрачивает всякий интерес к узнаванию и запоминанию чего-то нового? Не блокируют ли фильтрующие механизмы информацию о заурядных, повседневных событиях таким образом, что она больше не проникает в память? Или она все же откладывается в памяти, но не может быть извлечена из нее, как случается, когда мы не можем вспомнить имя человека, которое «знаем» и которое «вертится у нас на языке»? Или же такие события и в самом деле полностью забываются, безвозвратно уходят из нашей памяти? В действительности очень трудно провести границу между этими возможностями, несмотря на долголетние попытки многих психологов-экспериментаторов.
Утрата кратковременной памяти
Возникшая уже у ранних исследователей мысль о существовании оперативной и кратковременной памяти, следы которой сохраняются лишь несколько минут или часов и сменяются более стойкими следами, вскоре получила подтверждение при изучении последствий мозговых травм. Например, удар по голове часто вызывает потерю сознания и сотрясение мозга. После выхода из этого состояния пострадавший обычно не может вспомнить события, происходившие непосредственно перед травмой. Когда на экране детектив или ковбой, получивший удар, пошатываясь встает на ноги, потирает голову, озирается и спрашивает: «Где я?», он ведет себя не столь уж неестественно. К сходным последствиям - так называемой ретроградной амнезии - приводит кома при наркозе или прерывание электрической активности мозга при электрошоковой терапии. «Выпадение» памяти по таким причинам обычно охватывает период около получаса, что соответствует срокам стирания следов памяти в опытах Эббингауза.
Однако не стоит чересчур буквально понимать это замечание, как и большинство других, касающихся памяти. Так, у людей, выздоравливающих после сотрясения мозга, не сразу все функции и даже не все воспоминания восстанавливаются одновременно. Напротив, проходит ряд последовательных этапов, на которых нормализуются все более сложные функции: простые рефлексы, беспорядочные движения, целенаправленные движения, речь. При этом возможны странные пробелы памяти, когда пострадавшие не узнают людей и предметы, а иногда не помнят даже о событиях, происходивших много лет назад. По мере нормализации состояния больных эти пробелы постепенно сужаются, как описывает лондонский нейропсихолог Ричи Рассел, который обследовал 22-летнего мужчину, упавшего летом 1933 года с мотоцикла и получившего травму левой передней части мозга, хотя и без перелома черепных костей:
Через неделю после несчастного случая он мог разумно разговаривать, и создалось впечатление, что у него полностью восстановилось сознание. Однако при расспросах оказалось, что он принимал себя за школьника и относил происходящее к февралю 1922 года. Он ничего не помнил о своем пятилетнем пребывании в Австралии и о работе в течение двух лет на площадке для гольфа в Англии. Через две недели после травмы он вспомнил все пять лет жизни в Австралии, но последующие два года оставались белым пятном в его памяти. Через три недели после происшествия он вернулся в деревню, где работал последние два года. Ему все казалось незнакомым, и он не мог вспомнить, что когда-то бывал здесь раньше. Он неоднократно терял дорогу. Потом снова начал работать, все еще чувствуя себя пришельцем со стороны. Вполне удовлетворительно выполнял работу, но с трудом вспоминал, что сделал за день. По прошествии десяти недель события последних двух лет стали постепенно восстанавливаться в его памяти, и в конце концов он смог вспомнить все, что происходило, даже последние минуты перед происшествием [6].
Наблюдения такого рода показывают, что переход от кратковременной памяти к долговременной, видимо, нельзя рассматривать как процесс, строго упорядоченный в своей последовательности. Конечно, остается открытым вопрос, насколько правомерно судить о природе нормального процесса по результатам изучения такого случая, как описанный Расселом. Однако и в одном не столь серьезном случае мне довелось отметить такую же изменчивость временных границ памяти. Моя лаборатория находится примерно в четырех милях от железнодорожной станции, и в будни я по вечерам приезжаю сюда с работы, оставляю машину на стоянке и иду домой. Наутро я забираю ее и еду на работу. Пристанционная стоянка рассчитана на несколько сотен автомобилей и занимает большую площадь, так что всякий раз приходится ставить машину на новое место. На следующее утро я, как правило, точно помню, где оставил машину накануне вечером, и безошибочно нахожу ее. Здесь действует не долговременная память, так как я не помню, где оставлял машину двумя днями раньше. Но это и не просто «долгодействующая» кратковременная память, поскольку, вернувшись на стоянку вечером, я не помню, где стояла машина утром, но если оставляю ее на несколько дней, уезжая куда-нибудь на конференцию, то по возвращении могу вспомнить ее местонахождение так же легко, как если бы поставил ее только вчера.
Узнавание и вспоминание
Очевидно, что эта гибкая способность помнить или нет в зависимости от обстоятельств имеет важное адаптивное значение - такую особенность памяти мы сочли бы весьма желательной. Не менее очевидно, что несмотря на возможность теоретически различать кратковременную и долговременную память, переход между ними несводим к какому-то простому механическому процессу (поэтому некоторые психологи вообще сомневаются теперь в правомерности такого различения, о чем пойдет речь позже). Вернемся, однако, к различию между ними, так как это может помочь разобраться в том, как же я все-таки безошибочно нахожу свою машину на стоянке.
Мальчиком я очень любил игру, которую мы называли, не знаю почему, игрой Кима, хотя кому-то она может быть известна под другим названием. Игра состояла в том, что кто-нибудь заранее клал на поднос знакомые всем мелкие вещи: карандаш, игрушечную машину, рюмку для яйца и т. п. - обычно до двадцати предметов. До начала игры поднос был накрыт салфеткой, потом салфетку на короткое время снимали, а по прошествии, скажем, минуты снова накрывали ею поднос. Задача заключалась в том, чтобы составить перечень возможно большего числа предметов, увиденных на подносе. Я гордился своей памятью, так как обычно правильно называл семнадцать или восемнадцать из двадцати предметов. По правде говоря, это средний показатель для большинства людей. Но дальше число запоминающихся предметов не увеличивается, даже если их ставят на поднос в большем количестве. В этом случае, как и в опыте с рядами цифр, очевидно, существует естественный предел запоминания. Похоже, что память быстро насыщается.
В 1973 году канадский психолог Лайонел Стэндинг использовал несколько иной вариант этой игры. Группам добровольцев он показывал серию слайдов с картинками или словами, каждый примерно по пять секунд с трехминутными интервалами. Спустя два дня проверяли способность испытуемых вспоминать слайды. Для этого им показывали еще одну серию, на этот раз используя двойной проектор, чтобы на экране были видны рядом сразу два изображения: одно из них выбирали из новой, а другое из прежней группы слайдов. Испытуемым нужно было лишь сказать, какое из двух изображений, правое или левое, казалось им знакомым. Стэндинг хотел выяснить, сколько слайдов могли правильно узнавать его добровольцы. Эта задача кажется проще, чем в игре Кима, так как требуется только узнать изображение, и любой испытуемый имеет 50-процентный шанс дать правильный ответ даже при случайном выборе. Это позволяет ожидать некоторого улучшения результатов по сравнению с предельным показателем около 20 в тесте на вспоминание предметов. Но как велико это улучшение? К изумлению Стэндинга, разница оказалась колоссальной. Он продолжал увеличивать число предъявляемых слайдов и довел его до десяти тысяч! Но и тогда частота ошибок была очень низкой и не возрастала заметно с увеличением числа объектов, подлежавших запоминанию. Стэндинг пришел к выводу, что верхнего предела памяти практически не существует: память на узнавание предметов казалась ненасыщаемой [7].
Эти необычайные результаты дают основание для важных выводов. В отличие от данных, согласно которым количество информации, переходящей из кратковременной памяти в долговременную, совсем невелико, опыты Стэндинга показали, что в памяти в доступной форме сохранялись, видимо, следы всех изображений, достаточные для того, чтобы сравнивать с ними новые изображения и классифицировать их как знакомые и незнакомые. Исходя из этого, можно было бы утверждать, что ничто не забывается, если только вы знаете, каким способом это проверять. С другой стороны, узнавать легче, чем вспоминать - узнавание предполагает выбор из небольшого числа возможностей; в экспериментах Стэндинга испытуемые должны были просто сообщать, видели они ту или иную картинку раньше или не видели. У всех нас есть опыт такого рода, относящийся к более сложным задачам. Когда нас просят описать лицо малознакомого человека, мы в большинстве случаев испытываем затруднение (многим из нас трудно описать даже хорошо знакомое лицо, хотя мы тут же узнаем человека, когда он входит в комнату; вероятно, художники обладают особыми навыками или способностями, которых нет у других). Но если нас просят помочь установить личность человека по фотографиям из полицейского архива, задача намного облегчается и нам удается достаточно точно определить сходство. Появление самого человека или демонстрация отдельных черт лица, подобно слайдам Стэндинга, сужает для нас область поиска.
Все это помогает в известной степени объяснить мою способность вспоминать, где я оставил автомобиль. У меня довольно ограниченный выбор, он лимитируется размерами автостоянки и целым рядом случайных обстоятельств (солнечная или дождливая погода накануне вечером, время моего возвращения домой и т. п.). Определить местонахождение автомобиля - это задача не столько на вспоминание, сколько на узнавание.
Формы памяти
Пришло время подвести некоторые итоги. Богато структурированный мир памяти, позволяющий мне воскрешать моменты моего военного детства, вспоминать вкус съеденной месяц назад пищи, лицо сына, место своей машины на стоянке, вчерашнюю статью или только что названный телефонный номер, в течение столетия после Эббингауза и Рибо подвергался анализу в лабораториях психологов; они пытались упорядочить факты, выявить закономерности и раскрыть механизмы памяти с помощью методов, аналогичньис уже утвердившимся методам физики и физиологии. Результаты работ Эббингауза и некоторые данные о патологии памяти, казалось, позволяют обрисовать временную последовательность, где в периоды, измеряемые секундами, минутами и часами, входные сигналы избирательно поступают сначала в лабильную кратковременную память, а оттуда - в постоянную долговременную. В пределах кратковременной памяти, видимо, можно было выделить еще оперативную память, но классификация все равно оставалась в единственном измерении - во времени.
Однако что-то здесь было не так. Когда мы пытаемся втиснуть весь накопленный памятью опыт в одно измерение, он не умещается там. И дело не только в том, что временной ход забывания не укладывается в простую схему кратковременной и долговременной памяти, - имеются и другие важные различия. В этой главе уже обсуждалось различие между эйдетической и обычной памятью, между узнаванием и вспоминанием. Многие психологи чувствуют, что деление памяти на кратко- и долговременную явно упрощает более сложную действительность; поэтому некоторые из них предложили полностью отказаться от этой терминологии в пользу понятий, меньше связанных с временем, - говорить, например, о «рабочей» и «справочной» памяти, что близко к представлениям Джеймса о первичной и вторичной памяти [8].
Временное измерение нельзя игнорировать, но очевидно, что оно не охватывает существующих форм памяти. Необходимо ввести другие измерения и разработать систематику всех этих форм. Это очень сомнительное дело, поскольку ничто в науке не вызывает столько споров, как попытки классифицировать и упорядочить мир наблюдаемых явлений. Со времени Линнея, который в XVIII веке создал классификацию живых организмов не прекращаются раздоры между систематиками. Достаточно вспомнить об ожесточенных дискуссиях палеонтологов по поводу классификации ископаемых остатков [9], но у них по крайней мере есть материальные объекты, которые можно обсуждать. Все эти споры связаны отчасти с тем, что мы пытаемся выделить дискретные части в непрерывной вселенной - как из-за нашей решительности и склонности к выдумкам, так и из-за материальной реальности классифицируемых объектов. В зависимости от принятых критериев и определений классификация (или таксономия, по терминологии биологов) может быть удобной, как спортивный костюм, или стесняющей, как смирительная рубашка.
И тем не менее стоит попытаться. Но какому типу классификации отдать предпочтение и какие данные могут быть полезны? Можно, например, различать детскую (эйдетическую) и зрелую (линейную) память; словесную и зрительную память; память о недавнем и давно прошедшем; процессы узнавания и вспоминания. Все эти виды подразделения уже обсуждались в настоящей главе. Рассматривая «естественный» распад памяти у больных, например при болезни Альцгеймера или корсаковском синдроме, можно поставить вопрос о том, какой тип памяти у них утрачен и какой сохранился. По самой природе вещей не все подходы приведут к одинаковым ответам.
Одним из первых можно провести различие между памятью на действия и памятью на названия. Возьмем для примера знакомство с велосипедом. Можно обучиться езде на нем и можно узнать его название - «велосипед». («Сегодня мы учим детали...» - так начинается прекрасная поэма военного времени Генри Рида, где, в частности, перечисляются детали винтовки, которую его обучали разбирать.) Эти два типа научения представляют собой существенно разные процессы и в разной степени зависят от времени и расстройств памяти. Хорошо известно, что, научившись однажды (пусть даже с большим трудом) ездить на велосипеде, человек никогда не забывает этот навык. Даже после многолетнего перерыва он садится на седло и, немного повиляв рулем, едет. Чувство равновесия, которое у ребенка вырабатывается путем многих проб, в дальнейшем почти полностью сохраняется. Память в данном случае заключена и в мозгу, и в теле. Я сам всего месяц назад ощутил это на собственном опыте, отдыхая в Швеции. Впервые за последние тридцать пять лет усевшись на очень старую машину без переключения передач и ручного тормоза, я сразу отправился в 15-мильное путешествие. Уже через несколько минут я чувствовал себя так же уверенно, как в юности. Правда, так было, пока ехал по ровной дороге; спуски дались мне не сразу и потребовали выработки нового, поначалу довольно трудного навыка, так как раньше мне никогда не приходилось тормозить, нажимая педали назад, - я всегда пользовался ручными тормозами.
В то же время после мозговой травмы человек может совершенно забыть, что предмет с двумя колесами, на котором можно сидеть, работать педалями и передвигаться, называется велосипедом. Видимо, сохранять навык и помнить какие-то сведения - это совершенно разные вещи. Больные, страдающие амнезией, обычно хорошо усваивают новые навыки, будь то езда на велосипеде или работа пилой однако с трудом вспоминают что-либо о самом ходе обучения.
Хотя различие между этими видами памяти признано уже давно, в семидесятых годах ему стали приписывать особенно большое значение и придавать более формальный таксономический статус в среде разработчиков искусственного интеллекта; усвоение навыков стали называть процедурной памятью, а запоминание сведений - декларативной памятью. В психологию эти термины были введены нейропсихологом из Сан-Диего Ларри Сквайром в восьмидесятых годах [10] (Читатели, знакомые с нейропсихологией, сразу же заметят, что мой подход к систематике форм в значительной мере основывается на новаторских работах Ларри Сквайра в этой области. К тому же он лучше всех других известных мне нейропсихологов мог бы понять, почему в предыдущей главе я предложил заменить для компьютеров тест Тьюринга «покерным тестом». Вот почему я нахожу очень странным, что он продолжает отдавать предпочтение одному из типов моделей, основанных на обработке информации, как видно хотя бы из его последней книги.). Процедурная память, таким образом, сильно отличается от декларативной. К ней, очевидно, не относится ранее отмеченное мною различие между кратковременной и долговременной памятью. Механизмы обучения навыку и последующего вспоминания того, чему обучились, существенно отличаются от механизма вспоминания событий или сведений.
Но и сама декларативная память не едина: ее можно в свою очередь подразделить на эпизодическую и семантическую память.
Эти термины были предложены в семидесятых годах канадским психологом Энделем Тульвингом. Под эпизодической памятью Тульвинг понимал память на события индивидуальной жизни человека, а под семантической - знание вещей, не зависящих от индивидуальной жизни. В этом смысле моя осведомленность о войне 1939-1945 годов в Европе представляет собой семантическую память, а воспоминания о пережитых мною лично бомбежках во время этой войны относятся к эпизодической памяти [12].
Первоначально эти разнообразные категории были восприняты от психологов, изучавших то, что я могу назвать феноменологией памяти; здесь я имею в виду попытки описать и классифицировать важнейшие особенности памяти как феномена, не вдаваясь в вопрос, как их можно объяснить, исходя из лежащих в их основе процессов. Однако для нейропсихологов и нейробиологов такая феноменология служит всего лишь отправной точкой исследований, показывает, что они должны объяснить. При этом встают вопросы двоякого рода. Во-первых, не связаны ли разные формы памяти с разными системами мозга? Иными словами, существует ли в мозгу пространственное разделение систем памяти или же во всех проявлениях памяти участвует мозг как целое? Во-вторых, если для образования следов памяти требуются изменения структуры, биохимических или физиологических свойств мозговых клеток, то различен ли характер этих изменений при разных формах памяти?
Второй вопрос в настоящее время весьма актуален, он сильно занимает и меня; в связи с этим ему посвящены многие страницы последующих глав книги. Однако первый вопрос имеет гораздо более глубокие исторические и философские корни. В сущности, он составляет один из аспектов дискуссии, уже давно ведущейся в науке о мозге, - спора о возможности локализации определенных психических функций в определенных областях мозга. Этот вопрос возник по крайней мере еще в конце XVIII или в начале XIX века [13]. Тогда высказывались совершенно фантастические утверждения не только о связи всего, от математических способностей до любви к детям, с различными участками мозга, но и о том, что эти способности отражаются на форме черепа, так что их можно оценить путем ее изучения. Френология, пропагандируемая ее основоположниками Ф. И. Галлем и И. К. Шпурцгеймом, способствовала популярности идей локализации и их последующей дискредитации в глазах ученых. Потребовались работы Поля Брока во Франции, Дэвида Ферриера в Англии и других исследователей-новаторов XIX века, чтобы стало ясно, что по крайней мере некоторые аспекты мозговой деятельности как-то связаны с определенными структурами, поскольку повреждение этих структур приводит к более или менее специфическим функциональным дефектам - от паралича двигательного аппарата до утраты речи. Однако такие исследования породили уже тогда и продолжают порождать в наше время серьезную концептуальную проблему: можно ли делать выводы о работе здорового мозга, изучая ее нарушения в результате травмы или болезни? Очень многие сомневаются в этом. При более холистических представлениях о функционировании мозга как работе интегрированной системы попытки получить полезную информацию о нормальных процессах, изучая патологию, кажутся неубедительными.
Функция познается по дисфункции
Читатель, я полагаю, уже понял, что значительная часть наших знаний по классификации и биологии проявлений человеческой памяти основана на изучении ее расстройств. Конечно, такие исследования были продиктованы прежде всего потребностями медицины: известно множество состояний, начиная от болезни Альцгеймера до мозговых травм, инсульта, опухолей или эпилепсии, которые сопровождаются нарушениями памяти. Понимание их природы может помочь если не в лечении, поскольку во многих случаях лечебных средств пока нет, то хотя бы в поиске потенциальных подходов к реабилитации. Но, как я уже подчеркивал, при состояниях вроде болезни Альцгеймера и синдрома Корсакова происходят общие дегенеративные изменения мозга и психических функций; расстройства памяти тоже имеют общий, неспецифический характер. Тем не менее известно немало различных поражений отдельных областей мозга, которые приводят к весьма специфическим нарушениям памяти. Благодаря этому появляется возможность как бы приоткрыть окно, позволяющее взглянуть на работу мозга. Более того, современные технические достижения придают таким наблюдениям особый интерес. В прошлом можно было оценить состояние памяти у больного с поврежденным мозгом, но часто нельзя было установить связь ее расстройства с размерами повреждения, так как не удавалось определить их при жизни: исследование мозга приходилось отложить до смерти больного. В наше время КТ (компьютерная томография), ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) и многие другие методы сканирования позволяют прижизненно исследовать различные параметры состояния мозга, в частности выявлять зоны поражения клеток. Это дает возможность значительно ближе подойти к достижению целей интегрированной нейропсихологии. В конце этой главы я вернусь к вопросу о познавательных возможностях новых методов.
Прежде чем переходить к более подробному обсуждению результатов проведенных исследований, необходимо рассмотреть сущность проблемы интерпретации, касающейся их всех. Изучая работу поврежденного мозга, пытаются вывести заключение о функционировании интактного органа. При этом считают, что если известно, какая структура мозга поражена у больного с определенным дефектом памяти, то у здорового человека именно эта область мозга ответственна за нарушенную функцию. Однако в такой логике есть явные слабые места, хорошо подмеченные несколько лет назад в известной аналогии психолога Ричарда Грегори 1). Если из приемника вынуть какой-то транзистор, приемник не будет издавать никаких звуков, кроме свиста, но это вовсе не значит, что назначение транзистора в исправном аппарате - подавлять свист. Если кто-то изучает приемник без транзистора - он изучает систему без одного компонента, а отнюдь не отсутствующий компонент.
Но то, что верно в случае приемника, лишь частично относится и к мозгу, ибо сломанный приемник остается сломанным - он не пытается сам себя починить. Но как раз это старается сделать мозг и его обладатель - человек. В отличие от радиоприемника мозг - пластичная система с большими функциональными резервами (избыточностью). Пластичность означает, что хотя в случае разрушения отдельных мозговых нейронов в результате инсульта или травмы они не восстанавливаются (по крайней мере у взрослых людей), однако окружающие клетки могут расти и выпускать новые отростки, что обеспечивает частичную компенсаторную перестройку всей системы. Это означает также, что на последствиях повреждения одного участка могут сказываться результаты повреждения другой области, даже весьма отдаленной. Под избыточностью понимают наличие в мозгу областей, способных хотя бы частично брать на себя функцию, утраченную в результате повреждения другой области. Кроме того, обладание мозгом означает, что человек, желающий достичь определенной цели (например, вспомнить что-то), в случае блокирования нужного механизма будет искать новую стратегию вспоминания. (Пример - разные способы, к которым мы прибегаем, чтобы вспомнить забытое имя: перебираем буквы алфавита, стараемся представить лицо человека или связать его имя с обстоятельствами последней встречи, т. е. пользуемся всеми приемами вспоминания, обсуждавшимися в предыдущей главе.)
Эти качества от природы свойственны мозгу и обладающему им человеку; они составляют часть целого, которое делает нашу жизнь столь богатой и сложной, и потому должны радовать нас.
Тот факт, что иногда они затрудняют познание функции по дисфункции, - это всего лишь одна из второстепенных проблем. Ни на минуту не упуская из вида подобные проблемы, я хотел бы рассмотреть теперь, что дает изучение больных с расстройствами памяти.
Дыры в голове - дыры в памяти
Вероятно, из всех больных амнезией в истории нейропсихологии лучше всего изучен один канадец, известный в научном мире под инициалами Х.М. На результатах исследований памяти Х.М. сделали научную карьеру несколько видных теперь нейропсихологов. Поэтому стоит особо упомянуть, что X. М. не жертва инсульта или случайной мозговой травмы; его состояние явилось следствием запланированной хирургической операции, проведенной теми самыми людьми, которые потом и начали изучать нарушения памяти у этого больного. Х.М. страдал эпилепсией, и в 1953 году, когда ему было 27 лет, он был оперирован с целью (которая, как утверждают, была достигнута) облегчить симптомы болезни. Операция состояла в удалении значительных участков, включая передние две трети гиппокампа, миндалевидное ядро и часть височной доли, т. е. областей, роль которых в процессах памяти не была в то время известна [14].

Рис. 5.1. Головной мозг человека. При взгляде, как сказать, извне видны два массивных симметричных полушария, поверхность которых представляет собой кору мозга с многочисленными извилинами, состоящую из плотно упакованных нейронов (серого вещества). Отдельные области коры ответственны за разные функции, от приема сенсорной информации (зрительной, обонятельной, тактильной) до посылки двигательных команд. Для нас наиболее важна область, называемая височной долей, так как она связана с различными аспектами памяти. Именно эта область подвергалась стимуляции в опытах Пенфилда. За полушариями мозга расположен мозжечок, функция которого, помимо прочего, состоит в тонкой координации движений. От головного мозга отходит спинной мозг, от которого нервные волокна направляются к периферическим участкам тела.
Важнейшие структуры мозга показаны на рис. 5.1-5.3. Эти области, особенно гиппокамп, представляют собой образования сложной формы с плотно упакованными нервными клетками. Поскольку в дальнейшем мне придется не раз говорить о них, нелишне будет указать их расположение. Я не собираюсь выступать здесь в роли гида, ведущего туристов по лабиринту человеческого мозга, так как это не нужно для моих целей; еще меньше я склонен вдаваться в объяснение причудливых латинских названий, присвоенных некоторым структурам нейроанатомами. Делаю исключение только в одном случае, так как без этого нельзя обойтись при первом знакомстве с гиппокампом: его название (hippocampus) по-латыни означает морского конька, что объясняется отдаленным сходством с изогнутым хвостом этой прелестной рыбки.
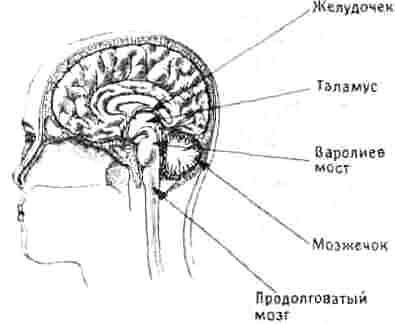
Рис. 5.2. Разрез мозга по срединной плоскости. Здесь видны некоторые внутренние структуры, лежащие ниже коры больших полушарий.
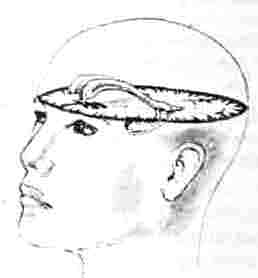
Рис. 5.3. Гиппокамп. При таком горизонтальном разрезе через мозг обнажается гиппокамп. На рисунке воспроизведена трехмерная структура гиппокампа и примыкающих к нему образований, чтобы можно было лучше представить себе их расположение, форму и размеры.
Удаление упомянутых выше частей мозга имело катастрофические последствия для больного Результаты испытания умственных способностей, не требующих большого участия памяти, оставались удовлетворительными, и он по-прежнему помнил события, имевшие место задолго до операции, частично утратив лишь воспоминания о непосредственно предшествовавшем ей периоде. Однако у него полностью исчезла способность включать новую информацию в долговременную память. Оперативная память на текущие события осталась незатронутой.
Через четырнадцать лет после операции психолог Бренда Милнер, особенно тщательно изучавшая состояние больного на протяжении всего этого периода, писала: Он все еще не узнает тех соседей или близких друзей семьи, которые познакомились с ним уже после операции..., хотя уверенно и точно указывает день своего рождения; он всегда преуменьшает свой возраст и совершенно не способен правильно определять [текущие] даты... Однажды он заметил: «Каждый день проходит сам по себе, какие бы радости или печали он ни приносил». У нас создается впечатление, что многие события стираются в его памяти еще задолго до конца дня. Он часто по собственной инициативе говорит о своем состоянии одно и то же, как о «чем-то вроде пробуждения от сна». Видимо, оно похоже на состояние человека, который только что начинает осознавать окружающее, но еще не вполне понимает, что происходит... Х.М. было гарантировано трудоустройство... участие в выполнении довольно монотонной работы... Типичный пример - размещение в витрине зажигалок на картонных подставках. Заслуживает внимания, что он не мог описать место и характер своей работы или дорогу, по которой его ежедневно возили... [15].
После X. М. сходные наблюдения проводились над другими больными. Один из них, Н. А., бывший авиационный техник, получил мозговую травму в результате несчастного случая в 1959 году, когда ему был 21 год. В левую половину его мозга через ноздрю проникло острие фехтовальной рапиры, повредив, в частности, таламическую область, которая оставалась интактной у X. М. Как и последний, Н. А. хорошо помнил все события, предшествовавшие травме, но лишь эпизодически припоминал то, что происходило в последующие тридцать лет. По сообщению Ларри Сквайра, он жил дома под присмотром матери, оставаясь бодрым и доброжелательным, но затруднялся вспомнить, «что происходило часом или днем раньше». Его прическа соответствовала моде 1959 года, и «недавно он упомянул имя Берри Грейбл, по-видимому, считая ее современной кинозвездой». «По первому впечатлению Н. А. совершенно нормальный человек», однако он забывает имена, приемы пищи или то, что надел новое платье. Жизнь его организована таким образом, чтобы свести к минимуму последствия потери памяти; по словам матери, «все, что его окружает, призвано служить напоминанием... Чтобы ориентироваться, нужно что-то вспоминать» [16].
При исследовании памяти больных, подобных X. М., Н. А. и другим, в условиях лабораторных психологических тестов, а не в повседневной жизненной обстановке, выявляется целый набор сходных нарушений. Прежде всего, у них всегда страдает декларативная, а не процедурная память. Мозговая травма не ведет к утрате заученных двигательных навыков. Как правило, по-видимому, сохраняется и устоявшаяся долговременная память, а также оперативная память. Таким образом, ухудшается в основном кратковременная декларативная память, что заставляет предполагать блокаду передачи информации из оперативного хранилища в долговременное. Количественная оценка этого нарушения в современных, более сложных вариантах теста Эббингауза выявляет у больных как общие черты, так и весьма характерные различия. Например, Х.М. гораздо хуже, чем Н.А., помнил изображения, тогда как способность обоих больных помнить слова была ослаблена примерно одинаково.
Другой поразительной общей чертой всех таких больных является потеря декларативной памяти при сохранности процедурной. Один из впечатляющих тестов при наблюдениях над Х.М. состоял в обучении его на протяжении нескольких дней решать задачу, требовавшую известных навыков и проявлений памяти. Это игра, называемая «ханойской башней». Испытуемый получает доску с тремя вертикальными стержнями, на которые нанизаны кольца разного диаметра. Задача состоит в том, чтобы, перемещая кольца, за минимальное число «ходов» построить на каждом стержне пирамиду, в которой кольца лежали бы одно на другом в порядке уменьшения их размера от основания к вершине. При этом действует ограничение: нельзя класть большее кольцо поверх меньшего. Всякий раз, когда X. М. предлагали эту задачу, он говорил, что никогда раньше не сталкивался с ней. Однако в ряду повторных проб его результаты постепенно улучшались. Таким образом, процедурная память опровергала его слова, основанные на свидетельствах декларативной памяти.
На первый взгляд кажется в высшей степени странным, что разобщение двух форм памяти у больного зашло столь далеко - что он мог обучаться определенному навыку и совершенствовать свои действия, не осознавая, как это происходит, не отдавая себе отчета, что он повторяет упражнение, которое делал еще вчера. Однако это весьма обычное явление у такого рода больных, и его нередко удается выявить при достаточной изобретательности исследователя. Из этого неизбежно следует вывод, что процессы процедурной и декларативной памяти не только вообще локализованы, но и связаны с разными отделами мозга. Поскольку, по-видимому, очень трудно потерять процедурную память и сравнительно легко лишиться декларативной, вполне возможно, что обе эти формы имеют разные по биохимической, физиологической и анатомической природе хранилища. Но к этому придется вернуться несколько позднее.
Попытки объяснить все эти сходства и различия процессов памяти основываются на анализе последствий разных по точной локализации, но перекрывающихся повреждений у отдельных больных. Так, у X.М. травма в равной степени затронула обе половины мозга, а у Н.А. коснулась только левого полушария, которое в большей мере имеет дело с словесной, нежели с образной информацией. У обоих этих лиц и у других обследованных больных нарушены нервные пути, включающие гиппокамп и таламус, которые входят в так называемую лимбическую систему. Однако сложность заключается в том, что у каждого больного повреждения мозга в клиническом отношении уникальны. Это не результат контролируемого эксперимента, а непредусмотренные случаи, слишком редкие, чтобы делать на их основании такие же обобщения, как в отношении болезни Альцгеймера или синдрома Корсакова. Стремление нейропсихологов связать наблюдаемые эффекты с определенными структурами и проводящими путями мозга привело в последние годы к попыткам моделировать отдельные типы поражений в экспериментах на обезьянах. Эти эксперименты дали ценные сведения о мозговых механизмах таких расстройств, но привели к острым конфликтам этического плана по вопросу о правомерности преднамеренного повреждения мозга у обезьян с целью лучшего познания процессов, происходящих в человеческом мозгу.
Окна в мозг
Для того чтобы продвинуться в понимании мозговых механизмов памяти дальше подробного изучения последствий травм или врачебных ошибок, нужно иметь возможность заглянуть в мозг человека, когда он чему-то обучается или что-то вспоминает. Сама эта мысль еще совсем недавно казалась несбыточной утопией какого-нибудь сочинителя научной фантастики или философа (они постоянно рассуждают о фантастической машине под названием «цереброскоп»). Однако в последнем десятилетии становится почти реальным то, что некогда казалось немыслимым. Сейчас разработаны новые методы получения изображений мозга, либо неинвазивные, либо почти неинвазивные 1), которые начинают открывать желаемую перспективу.
Однако самые ранние исследования такого рода никак нельзя было назвать неинвазивными. Я уже упоминал, что в результате операции с целью уменьшить проявления эпилепсии у X.М. был разрушен гиппокамп. Многие годы такой подход оставался стандартным методом лечения некоторых форм этого заболевания (очаговой эпилепсии). Очаговая эпилепсия начинается с возникновения волны электрической активности в относительно небольшой группе нейронов, откуда она распространяется на обширную область мозга. Нейрохирургическая методика состоит в определении локализации клеток, индуцирующих эту активность, и их изоляции, т. е. устранении их связей с другими отделами мозга с целью предотвратить распространение электрической волны. Этот метод связан прежде всего с именем Уайлдера Пенфилда - нейрохирурга из Монреаля. По крайней мере на начальном этапе его применения, в пятидесятые годы, для выявления эпилептогенного очага обнажали поверхность мозга и исследовали ее с помощью электродов, через которые пропускали ток для стимуляции ближайших нейронов. В моем описании это выглядит гораздо страшнее, чем на самом деле. В мозгу нет болевых рецепторов, поэтому все манипуляции после разреза кожи и вскрытия черепной коробки безболезненны. Операцию можно проводить под местной анестезией, и больной может сообщать хирургу об испытываемых при электростимуляции ощущениях.
В ходе лечения этим способом более 1100 больных, преимущественно в пятидесятых годах, Пенфилд и его сотрудники с помощью электродов обследовали значительную часть поверхности мозговой коры. Стимуляция одних зон давала сенсорные ощущения, стимуляция других вызывала двигательные реакции, и Пенфилду удалось показать, что вся поверхность тела как бы «спроецирована» на кору. Карты таких проекций неизменно приводятся теперь в любой книге о мозге. Но сейчас меня интересуют не сами карты, а переживания, о которых сообщали больные, когда Пенфилд раздражал у них ту или иную зону правой и левой височной доли мозга (см. рис. 5.2). Стимуляция вызывала слуховые, зрительные и комбинированные зрительно-слуховые ощущения; больные слышали голоса и музыку, видели людей и разнообразные сцены, у них возникали определенные мысли, воспоминания из прошлой жизни и зрительные образы. Это было не у всех больных и не при всех видах стимуляции, однако исследователей особенно волновали сообщения пациентов о пробуждении воспоминаний, ранее остававшихся скрытыми.
Такие воспоминания были подобны галлюцинациям или сновидениям. Часто вначале появлялись смутные или неполные образы, но при дальнейшей стимуляции они становились все более четкими, пока не превращались в целые эпизоды, вновь переживаемые больными, как если бы «моментальные фотографии» эйдетической памяти переводились на кинопленку и просматривались на экране. Некоторые больные описывали их как «сны», в которых слышались «голоса людей» или виделось «много народу... в столовой; кажется, там же была моя мать». Иногда такие описания носят очень общий характер («собака гонится за кошкой»), в других случаях они гораздо более конкретны («я слышу смех... это мои кузины Бесси и Энн де Вельё», «мать по телефону просит мою тетку зайти к нам вечером») [17].
На основании этих наблюдений тут же был сделан вывод, что следы памяти хранятся в височной доле и их можно пробуждать раздражением соответствующих участков. Тем не менее интерпретация таких данных представляет значительные трудности. Во-первых, тот факт, что стимуляция какой-то области вызывает данное воспоминание, не означает, что оно здесь и «хранится». Можно представить себе, что электростимуляция данного участка приводит к возбуждению его клеток, заставляя их в свою очередь сообщаться с другими зонами, которые и служат «истинными» местами хранения. Во-вторых, еще важнее решить, будет ли результат такой стимуляции «подлинным» воспоминанием о действительном событии или же своего рода «вымыслом», чем-то вроде сновидения или галлюцинации. Сам характер сообщений не позволяет делать уверенных выводов. Наблюдения Пенфилда остаются чрезвычайно интересными, но окончательная интерпретация их пока невозможна.
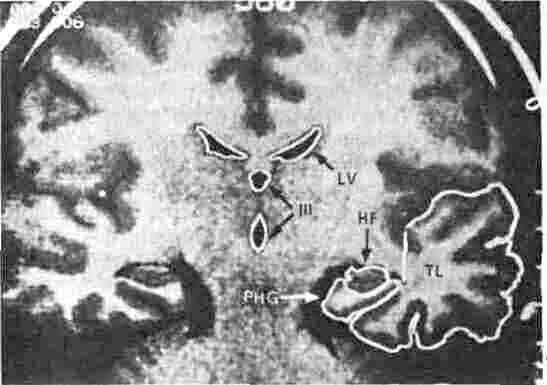
Рис. 5.4. Изображение мозга, полученное с помощью ядерного магнитного резонанса (ЯМР). На рисунке показан фронтальный разрез мозга здорового молодого человека, полученный с помощью неинвазивного метода ЯМР. Темные области в центре (III и IV) - желудочки, HF - гиппокамп, РНО - извилина аммонова рога, TL - височная доля. Штрихи справа расположены через 1 см. У больных с синдромом Корсакова эта область заметно атрофирована, а желудочки увеличены. При некоторых других формах амнезии височная доля повреждена и уменьшена в размерах. (Фото любезно предоставил Лэрри Сквайр; из L.R. Squire, D.G. Amarel, G-A. Press, J. Neurosci., 1990, 10, р. 3106-3117.)
Поразительные достижения двух последних десятилетий в регистрации мозговой активности и в самом деле обещают воплотить в жизнь мечту о «цереброскопе», который поможет дальнейшему развитию исследований, находящихся пока на стадии предварительных поисков.
Мозг как физиологическая система на клеточном и химическом уровнях чрезвычайно динамичен. Активные нейроны нуждаются в больших количествах глюкозы и кислорода, и развитая система кровоснабжения мозга в любой момент должна доставлять эти вещества туда, где они всего нужнее. Работа нервных клеток - это электрическая активность, и генерируемый биологическими механизмами ток течет через мозг регулярными и вместе - с тем изменчивыми, как на море, волнами. Кроме того, в силу физической природы электричества протекающий ток создает магнитное поле, перпендикулярное к его направлению. Все эти свойства мозга открывают возможности для получения его изображений. В любой сканирующей системе на поверхности головы размещают по определенной схеме детекторы, причем их может быть тем больше, чем меньше их размеры. В некоторых случаях число различных детекторов достигает 124. Каждый детектор регистрирует возникающие в мозгу сигналы; почти (но не абсолютно) одновременное поступление сигналов на разные детекторы позволяет определять локализацию их источников. Затем компьютерные системы составляют карты «срезов» через мозг в соответствующих координатах, а получаемые черно-белые изображения условно перекодируются компьютером в цветные для облегчения их визуального анализа. Одна из таких карт показана на рис. 5.4.
Применяемые методы различаются природой регистрируемого сигнала, разрешающей способностью в пространстве и временем, за которое можно получить сигнал. Наиболее известен метод, сокращенно называемый ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография, где «томография» означает избирательное выделение сигналов из параллельных «срезов» с помощью компьютера). Он основан на введении короткоживущих и, по-видимому, неопасных радиоактивных изотопов в кровяное русло с последующей регистрацией их распределения в мозгу по испускаемым позитронам на протяжении примерно получаса после инъекции. Это напоминает методику радиоизотопного мечения, которую я применяю в моей лаборатории и уже описал в главе 2. В зависимости от используемого изотопа ПЭТ позволяет картировать распределение в мозгу крови, кислорода или глюкозы. Если испытуемому предлагают то или иное задание, например произвести несложные вычисления или заучить отрывок из стихотворения, ПЭТ «высвечивает» участки мозга, более активные при умственной работе, чем в состоянии покоя. Чтобы получить изображение методом ПЭТ, требуется довольно много времени, зато разрешающая способность выше, чем у многих других методов, поскольку на снимках можно различать участки мозга объемом примерно в половину кубического сантиметра (но даже в таком объеме умещаются десятки миллионов клеток). Однако методы такого рода нельзя считать полностью неинвазивными, так как они требуют введения изотопов.
В отличие от этого метод магнитнорезонансного сканирования (МРС) абсолютно неинвазивен и выявляет сигналы, зависящие от атомных свойств индивидуальных молекул. Он позволяет измерять сигналы только тех молекул, которые присутствуют в тканях в больших количествах (например, молекул воды), и отличается довольно слабой разрешающей способностью в пространстве, но зато обеспечивает очень быстрое получение изображений - всего за несколько миллисекунд. Таким образом, малое пространственное разрешение компенсируется очень большим временным. Едва ли не самая перспективная новая методика, сокращенно называемая «сквид» (применение сверхпроводящих магнитометров), выявляет очень слабые магнитные поля (не более одной миллиардной доли магнитного поля земли), генерируемые в результате электрической активности мозга. Правда, предстоит еще решить немало технических и теоретических вопросов, прежде чем можно будет практически использовать «сквид» в нейробиологии.
Между тем МРС и ПЭТ стали уже рутинными методами обследования больных и широко применяются в исследовательской работе. Именно МРС позволило Сквайру получить прямые доказательства связи специфических проявлений амнезии у бывшего авиационного техника Н.А. с повреждением гиппокампа и таламуса. Но, пожалуй, самые интересные сведения дает ПЭТ благодаря своей высокой разрешающей способности. Применение ее в клинических условиях позволяет определять места поражения мозга, а также участки, компенсирующие дефекты, когда функцию пораженной области берут на себя другие отделы мозга и больной вновь обретает утраченную способность.
Получаемые изображения поистине красивы и впечатляющи и как бы открывают окно в мозг, о чем нельзя было даже подумать еще несколько лет назад. Тому, кто их впервые видит, трудно удержаться от мысли, что они, возможно, позволят ответить на любые вопросы, касающиеся функции мозга и ее связи с психическими процессами. Однако все не так просто. Демонстрация активности в какой-то области мозга во время обучения или запоминания не дает твердых оснований считать, что именно здесь и откладываются следы памяти. Их «хранилище» может находиться совсем в другой части мозга, для активации которой не требуется усиленного притока глюкозы; не исключено, что мы видим не саму действующую нейронную сеть, а лишь ее периферические устройства. Данные о повышенной утилизации глюкозы и кислорода сами по себе ничего не говорят о деталях молекулярных механизмов происходящего процесса. И, что еще важнее, если рассуждать на менее механистическом уровне, они ничего не могут нам сказать о значении, или содержании, наблюдаемого процесса, о правилах перевода с языка сознания на язык мозга и обратно. В лучшем случае все эти данные могут подсказать, где именно в мозгу следует искать Розеттский камень, но не помогут ни расшифровать иероглифы, ни прочесть написанное. Для этого нужен другой подход.
к гл. 1
1. Обсуждение вопроса о реализме в науке: Bhaskar R-A. Realist Theory of Science. Leeds Books, 1975; Lawson H., Appignanesi L, Dismantling Truth, Weidenfeld and Nicolson, 1989: Новое в социологии и антропологии науки: Bames В., Shapin S. Natural Order. Sage, 1979; Haraway D. Primate Visions, Routledge, 1989; Latour B. Science in Action, Open University Press, 1987; Latour В., Woolgar S. Laboratory Life, Sage, 1979; Mulkay M. The Word and the World, Alien and Unwin, 1985; Novotny H., Rose H. A. Countermovements in the Sciences. Reidel, 1979.
2. С. Роуз и Хилари Роуз о науке: Rose H. A; Rose S. P. R. Science and Society. Penguin, 1969; Rose H. A; Rose S. P. R. The Political Economy of Science, and The Radicalization of Science, both Macmillan, 1976; Rose S. P. R., Lewontin R. C., Kamin L. Not in our Genes. Penguin, 1984; Rose S. P. R. Molecules and Minds, Open University Press, 1987; Rose H. R. Hand, Brain and Heart. Polity (forthcoming).
К гл. З
1. Bergman I. The Magic Lantern. Hamish Hamilton, 1988, p. 2.
2. Mcltwain H. Biochemistry and the Central Nervous System, 1st edition, Churchill, 1955.
3. Обзоры работ Хидена - см. его главы в книге: Ansel О. В., Bradley P. В. (eds) Macromolecules and Behaviour. Macmillan, 1973.
4. Rose S. P. R. Preparation of enriched fractions from cerebral cortex containing isolated metabolically active neuronal and glial cells. Biochemical Journal 102, 33-34, 1967.
5. Rose S. P. R., Cragg В. G. Changes in rat visual cortex on first exposure to light. Nature 215, 253-257, 1967.
6. О связях Лоренца с нацистами: Muller-Hill В. Murderous Science; Elimination by scientific selection of Jews, Gypsies and others, Germany, 1933-1945. Oxford University Press, 1988.
7. Bateson P. P. G., Нот О., Rose S. P. R. Effects of an imprinting procedure on regional incorporation of tritiated lysine into protein of chick brain. Nature 223, 534-535, 1969.
К гл. 4
1. Ong W. Orality and Literacy. Methuen, 1982, p. 146.
2. Cicero, De Oratore, II, Ixxxvi, 351-354, цит. по Yatcs P. The Art of Memory. Penguin, 1966, pp. 17-18.
3. Цит. по Patten В. M. The history of memory arts. Neurology 40, 346-352, 1990.
4. Yates, op. cit.
5. Spence J. D. The Memory Palace of Matteo Ricci. Viking, 1985.
6. Bolter D. Turing's Man. University of North Carolina Press, 1984.
7. Rose H. A., Rose S. P. R. Science and Society, Penguin, 1969.
8. Wall P. D., Safran J. Artefactual Intelligence, In: The Limits to Science, ed. Rose S. P. R., Appignanesi L. Blackwell, 1986.
9. См. ссылки в двух книгах: Rose H. A., Rose S. P. R. The Political Economy of Science, and The Radicalization of Science, both Macmillan, 1976.
10. Needham J. Science and Civilization in China, Cambridge University Press (continuing series of volumes).
11. Rose S. P. R. Molecules and Minds. Open University Press, 1987.
12. Descartes R. Philosophical Works, 1:116.
13. См., например, Westcott E. A. Century of Vivisection and Antivivisection. Daniel, Ashington, 1947; Lansbury C. The Old Brown Dog: women workers and vivisection in Edwardian England. University of Wisconsin Press, Madison, 1985; Rose H. A. Gendered reflections on the laboratory in medicine. In: Hand, Brain and Heart, Polity, Oxford, forthcoming.
14. Descartes R. Les Passions de Гаме, 1949, quoted in Dudai Y. The Neurobiology of Memory, Oxford University Press, 1989.
15. The New Book of Knowledge, Vol. II BIB-CHIC. Я воспитывался на этой энциклопедии.
16. Hodges A. Alan Turing: The enigma of intelligence. Counterpoint, 1983.
17. Papert S. One A.I. or Many. In: The Artificial Intelligence Debate, ed. Graubard S.R., МГГ Press, 1988, pp. 3-4.
18. LightluU J. Artificial Intelligence. Science Research Council, 1973.
19. Rumelhart D. E., McCleIland J. L., and the PDP Research Group, Parallel Distributed Processing, МГГ Press, 1986, 2 vols.
20. ChurcHland P. S. Neurophilosophy: Towards a unified science of the mind-brain. МГГ Press, 1986.
21. Churchland P. S., Sejnowski T. J. Perspectives on computational neuroscience. Science 242, 741-745, 1988.
22. Minsky M. The Society of Mind. Heinemann, 1987.
23. Boden M. In: The Limits of Science, ed. Rose S. P. R., Appignanesi L.; Blackwell, 1986.
24. Searle J. R. Minds, Brains and Science. Harvard University Press, 1984.
25. Penrose R. The Emperor's New Mind. Oxford University Press, 1990.
26. Edelman G. Neural Darwinism: The theory of neuronal group selection; Topobiology; and The Remembered Present, Basic Books, 1987, 1988, 1989.
27. Griffith J. S. A View of the Brain, Oxford, 1967.
28. Этот пример взят из работы: Van Foerster H. What is memory that it may have hindsight and foresight as well? Atogra, Feb-April, Comm. 122-124, 1969.
29. Все эти аналогии встречаются в современной литературе по моделированию. См., например, Delacour J., Levy J. С. S. (eds) Systems with Learning and Memory Abilities. Elsevier, 1988.
30. См. (I) в списке литературы к гл. 1.
31. Ong, op. cit., p. 134.
32. Austen J. Mansfield Park, 1814, Chapter 22.
33. Frame J. An Autobiography. The Women's Press, 1990.
34. Barges J. L. Funes the Memorious, In: Fictions, Calder, 1965.
35. Atwood M. The Handmaid's Tale. Virago, 1987.
к гл. 5
1. Luna А. Я The Mind of a Mnemonist. Cape, 1969.
2. Haber N. R. Eidetic images. Scientific American 220, 36—40, 1969.
3. Ebbinghaus H. In: Memory: A contribution to experimental psychology. Dover, 1964, p. 5.
4. James W. Principles of Psychology. Holt, 1890, pp. 646, 648.
5. Miller G. A. The magic number seven, plus or minus two. Psychology Review 9, 81-97, 1956.
6. Russel W. Я Brain, Memory, Learning, Oxford, 1959, pp. 69—70.
7. Standing L Remembering ten thousand pictures. Quarterly Journal of Experimental Psychology 25, 207—222, 1973.
8. Baddeley A. The concept of working memory, a view of its current state and probable future development. Cognition 10, 17—23, 1981.
9. Превосходное описание одной такой дискуссии: Could S. J. Wonderful Life. Century Hutchinson, 1990.
10. Squire L Я The neuropsychology of human memory. Annual Review of Neuroscience 5, 241-273, 1982.
11. Squire L Я Memory and Brain. Oxford, 1987.
12. Tulving E. Elements of Episodic Memory. Oxford, 1983.
13. Историю науки еще только начинают исследовать. О дискуссиях по поводу локализации функций в 19-м веке см.: Young Я М. Mind, Brain and Adaptation in the Nineteenth Century. Oxford, 1970; Harrington A. Mind, Medicine and the Double Brain, Princeton, 1987; Star S. L. Regions of the Mind: Brain Research and the Quest for Scientific Certainty. Stanford University Press, 1989.
14. Scovule W. В., Milner B. Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 20, 11-21, 1957.
15. Milner В., Corkin S., Teuber H L. Further analysis of the hippocampal amnesic syndrome: 14 year follow-up study of H.M. Neuropsychologia 6, 215-234, 1968.
16. Squire, Memory and Brain, op. cit., pp. 178-179.
17. Penfield W, Perot P. The brain's record of auditory and visual experience. Brain 86, 595-696, 1963, quoted by Squire, Memory and Brain, op. cit.
ББК 28.9 Р79 УДК 612.821.2
Роуз С. Р79 Устройство памяти. От молекул к сознанию: Пер. с англ. - М.: Мир, 1995. - 384 с., ил.
ISBN 5-03-003011-5
В книге известного английского ученого и популяризатора науки изложены принципиальные подходы к исследованию памяти, история этих исследований и современные представления об эволюции и механизмах памяти. Живо и остроумно автор описывает собственный 30-летний опыт работы в этой области и повседневную жизнь своей лаборатории. Книга привлекает широтой освещения проблемы и блестящим стилем изложения.
Для нейрофизиологов и всех интересующихся проблемами биологии и психологии.
ББК 28.9
Издание выпущено в счет дотации, выделенной Комитетом РФ по печати
Редакция литературы по биологии
(Последние исправления - 13.11.2005)